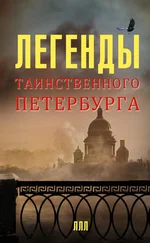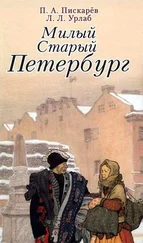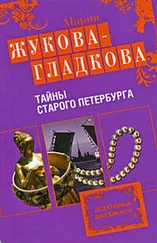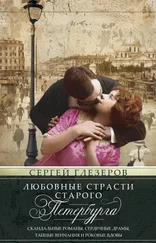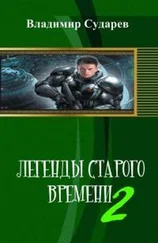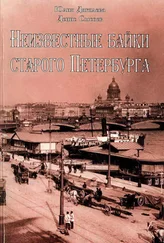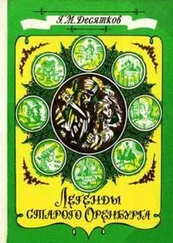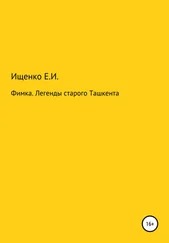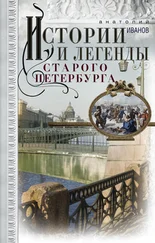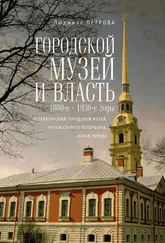После игры Екатерина II надела на себя белое домино, маску и пошла прогуливаться, дав руку князю Ивану Чернышеву, через комнаты, где танцовали. Некоторые из ее камердинеров также были в масках, чтобы на случай, когда из нахальства или по неосторожности слишком приближались к закрытой богине, таковых отклонять знаками».
31 марта 1783 г. Екатерина писала из Петергофа тому же графу Панину следующие строки: «Граф Никита Иванович, из письма вашего от сего утра усмотрела я, что сын мой, слава Богу, здоров. Мое беспокойство, по причине сильной бури, миновалось; оно не без причины было, ибо великое число всяких разбитых судов нас здесь в Монплезире окружают, а я думала, что одна барка к нам в хоромы пожалует; людей же несколько потонуло, и один матрос нам в сем случае великое покорство к службе показал, ибо все сошли с судна, а он остался и потонул было, если б на берегу здесь его не откачали бы; корабль и галеры в добром состоянии сколь отсюда видно».
Екатерина жила в Монплезире, в построенном при Елизавете, но вновь отделанном для Екатерины каменном дворце. Спальню Великой Государыни показывают до сих пор в деревянной пристройке, где уцелела и ее кровать, но последняя заслуживает быть реставрированною. Строителем Екатерининского дворца, близ Монплезира, вероятно, был знаменитый придворный архитектор Джакомо Гваренги, который с 1781 г. сооружал в Петергофе дворец, названный впоследствии Английским.
ПЕТЕРГОФ ПРИ ПАВЛЕ I
Забытый в последние годы царствования Екатерины, Петергоф оживился с воцарением Павла Петровича, который летом 1797 г. пригласил в Петергоф, из Мраморного дворца, короля польского Станислава-Августа Понятовского и поместил его в Монплезире в Екатерининском дворце; император Павел сам водил короля по Большому Петергофскому дворцу и показывал ему, между прочим, свой кабинет, единственную комнату из всего дворца, оставленную в том самом виде, как она была при Петре I, с тою же отделкою стен дубом и резьбою.
Бывший министр юстиции и баснописец Ив(ан) Ив(анович) Дмитриев в записках своих говорит: «Выход императора Павла из внутренних покоев для слушания в дворцовой церкви литургии предваряем был громогласным командным словом и стуком ружей и палашей, раздавшимся в нескольких комнатах, вдоль коих, по обеим сторонам, построены были фронтом великорослые кавалергарды под шлемом и в латах. За императорским домом следовал, всегда, бывший польский король Станислав Понятовский, под золотою порфирою на горностае, подол которой несом был камер-юнкером».
Особенно торжественно праздновался в Петергофе день тезоименитства императрицы Марии Феодоровны, 22 июля, когда весь Петербург пустел, направляясь в место царской резиденции.
По словам камер-пажа Дарагана, «туда манила петербуржцев не столько блестящая иллюминация, коль так незабвенный маскарад, хотя в нем не было ни одной маски, а в залах дворца можно было видеть вблизи всю Императорскую фамилию, которая, как и публика, имела на плечах домино или, так называемый, «венециал»».
В Петергофе, возле самого дворца, были еще пустыри и рощицы и на этих-то полянках табором располагалось петербургское население. Главным местом бивака служила просторная площадка против верхнего просторного сада. Кареты, коляски, телеги размещались на ней в живописном беспорядке. Возле экипажей готовили обед, пили чай. За каретами одевались дамы.
От одного экипажа к другому ходили с визитами. Неумолкаемый, веселый говор и смех стоял над площадкою. И сколько тут возникало комических сцен, новых знакомств и романтических завязок…
ПЕТЕРБУРГ В ОСЕНЬ 1796 ГОДА
I
Столица наша в августе и сентябре 1796 г. переживала веселое время. Праздники, балы и всякого рода увеселения происходили ежедневно по случаю приезда сюда шведского короля Густава IV под именем графа Гага, к прибытию которого Державин написал четверостишие:
«Ты скрыл величество, но видим и в ночи
Светила северна сияющи лучи.
Теки на высоту свой блеск соединить
С прекраснейшей из звезд, чтоб смертным счастье лить!..»
Все в Петербурге знали, что Густав приехал в качестве жениха Великой Княжны Александры Павловны, а потому, как только разнеслась весть об его прибытии, весь город пришел в движение, всем хотелось взглянуть на него не только как на короля, но как на лицо, готовое вступить в родство с царским семейством.
Известная всем картина профессора Якоби «Король-жених», приложенная несколько лет тому назад к «Ниве», прекрасно воспроизводит стройную фигуру короля, который, по словам гр(афа) А. Р. Воронцова, был «среднего роста, волосы имел рыжие и большие глаза под цвет волос, которые выражали только хладнокровие».
Читать дальше
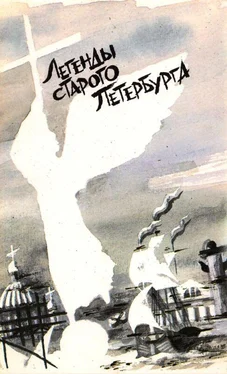
![Иван Божерянов - Великая разруха Московского государства, 1598–1612 гг. [с иллюстрациями]](/books/34973/ivan-bozheryanov-velikaya-razruha-moskovskogo-gosudar-thumb.webp)