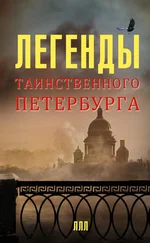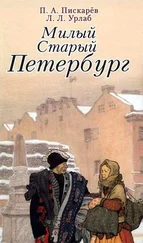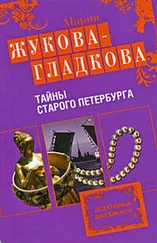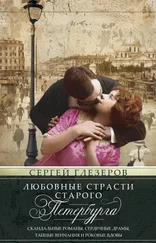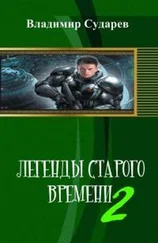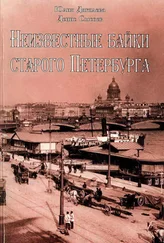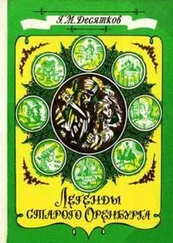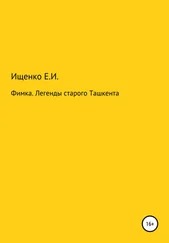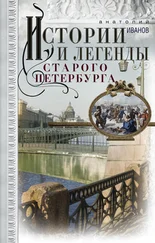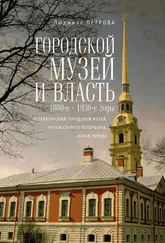За Нарышкинскою дачею находилась дача графа Ив(ана) Ст(епановича) Лаваля [38] Лаваль — Лаваль Иван Степанович (ум. в 1846 г.) — французский эмигрант, деятель просвещения, журналист.
, который, заметим, был французский эмигрант, начавший свою службу учителем в Морском кадетском корпусе. Дочь статс-секретаря Козицкого влюбилась в него и подала просьбу Павлу I о разрешении ей вступить с ним в брак, так как мать ее, наследница богатого купца, не соглашалась на это. Император Павел потребовал объяснений и на ответ вдовы Козицкой, что Лаваль не нашей веры и что у него маленький чин, дал такую резолюцию: «Он христианин, я его знаю, и для Козицкой чин у него весьма достаточный, а потому — обвенчать». Потом Лаваль во время пребывания короля-изгнанника Людовика XVIII в Митаве давал ему деньги, за что и был пожалован титулом графа. Дом Лаваля в Петербурге стоял рядом с Сенатом на Неве (теперь Полякова [39] Поляков — Поляков Сергей Сергеевич — промышленник, «железнодорожный король». В начале 1900-х гг. дом у него был куплен казной для размещения зала заседаний Сената.
, а ранее графа Борха. за которым была младшая дочь Лаваля) и славился роскошью и своими праздниками. Сам Лаваль умер в 1846 г., в чине д(ействительного) т(айного) сов(етника); единственный сын его застрелился в молодых летах, а старшая дочь вышла за князя Сергея Трубецкого, декабриста, и последовала за ним в ссылку. Лавальский парк сохранил до сих пор имя своего владельца, хотя давно уже принадлежит книгопродавцу Вольфу, но самый дом — дача сгорел несколько лет тому назад вместе с корсетною фабрикою, которая в нем помещалась.
Летом по воскресным дням, эта аллея съезда haute voleé [40] haute voleé (фр.) — высокого полета.
становилась сборищем петербургских ремесленников-немцев, угощавшихся в обширном деревянном доме, где помещался трактир, находившийся на берегу Невы, как раз против дачи Зиновьева, близ которой был перевоз от Зелениной (т. е. Зелейной) улицы, так как в то время моста с Петербургской стороны на Крестовский еще не существовало, а против дачи Лаваля стояли летние деревянные катальные горы (прототипом для которых была Катальная горка в Ораниенбауме), и с них беспрестанно слетали колясочки, на которых дамы помещались у кавалеров на коленях…
Кроме этого удовольствия немецкая молодежь находила истинное увеселение в Ritter-Spiel, т. е. рыцарской игре, состоявшей в следующем: возле трактира был построен павильон с 6-ью или 8-ью длинными горизонтальными окнами и крышею, в виде купола, которая имела также окошечки, дававшие свет в обширную круглую ротонду, вдоль стен которой находилось восемь столбов, а на них висели, сделанные из папки, арабские и турецкие головы в чалмах. Посреди же ротонды круглый пол или барабан, окруженный балюстрадою; приводился в движение вместе с помещенными на нем шестью деревянными конями, на которых взбирались всадники из публики с пиками и саблями для снимания колец и рубки голов, одним словом, это была большая карусель. Но со временем все эти затеи были перенесены на другую сторону Крестовского острова в «Русский трактир».
В половине XVIII века, говорит Васильчиков, автор книги «Семейство Разумовских», Крестовский остров был пожалован императрицею Елизаветою Петровною графу Алексею Григ(орьевичу) Разумовскому (ранее он принадлежал царевне Наталье Алексеевне, а Анна Иоанновна подарила его Миниху), после смерти его перешел к брату его — Кириллу Григорьевичу, который по вступлении на престол императора Павла I, услыша ходившую молву, что все жалованные имения будут отобраны в казну, поспешил продать Крестовский остров князю А. М. Белосельскому [41] А. М. Белосельский — Белосельский-Белозерский Александр Михайлович (1752–1809) — князь, русский дипломат и писатель. Член Российской академии и почетный член Петербургской АН.
за 90 тысяч рублей, хотя на нем было одного лесу в то время на 500 тысяч.
Новый владелец Крестовского острова поселил несколько крестьян против Елагина острова и назвал это место «Чухонской деревней» [42] …назвал это место «Чухонской деревней»… — «Чухонская деревня» не сохранилась.
; в ней-то и явился «Русский трактир», особенно процветавший, когда в нем ходил по канату акробат Иосиф Вейнерт, прозванный простым людом «Оськой». Этот Вейнерт отличался смелостью, и для него на берегу Крестовского острова была построена башня с трамплином, с которой он, с гирями на ногах и факелами в руках, кидался в воду и, пробыв в ней несколько секунд, снова показывался на поверхности воды, но уже в другом костюме и выделывал разные штуки.
Читать дальше
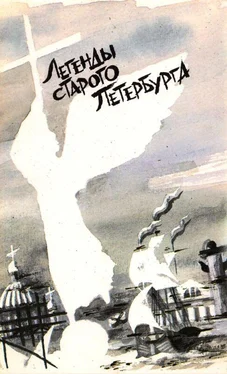
![Иван Божерянов - Великая разруха Московского государства, 1598–1612 гг. [с иллюстрациями]](/books/34973/ivan-bozheryanov-velikaya-razruha-moskovskogo-gosudar-thumb.webp)