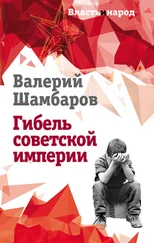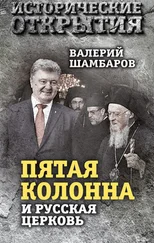Приамурские лесные вояки вынуждены были прятаться в медвежьих углах, по непролазным чащобам, добывая пропитание налетами и грабежом. За полтора года в тайге они совершенно одичали, озверели. Пленных здесь даже не расстреливали, а швыряли толпе на растерзание. Зверски убивали пойманных горожан, объявляя «буржуями» или «шпионами», в деревнях резали богатых крестьян. Терроризировали национальные меньшинства, поэтому буряты и тунгусы стали воевать на стороне белых.
Любимая начальница громил, Ниночка Лебедева, катастрофическую зиму 1918/1919 гг. провела с относительным комфортом, в Благовещенске на подпольной работе. Конечно, рисковала. Это где-нибудь в Омске, Иркутске, Владивостоке, где действовала слабенькая и беспомощная колчаковская контрразведка, подпольщики и заговорщики разгуливали беспрепятственно. А если попадались, чаще всего оставались целыми и невредимыми. Даже такие видные большевики, как будущий глава правительства Дальневосточной республики А. М. Краснощеков, лидер владивостокских коммунистов П. М. Никифоров, спокойно сидели в колчаковских тюрьмах, еще и руководили оттуда своими организациями. А в Забайкалье и Приамурье контрразведки Семенова, Калмыкова и японцев работали куда более эффективно. Но и куда более сурово. Схваченных врагов, как правило, ждала смерть.
Но, с другой стороны, это была все же не зимняя тайга. Лебедева, по крайней мере, жила в тепле, не знала голода и тяжелых трудов, не кормила вшей молодым телом, не уродовала ноги в бесконечных скитаниях и не коптилась дымом костров. Силу, стоявшую за ней, коммунистическое руководство знало и учитывало, вес Нины в подпольных организациях был очень высоким. В 1919 г. ее избрали в состав «Военно-революционного штаба партизанских отрядов и революционных организаций Хабаровского и Николаевского районов», в этом штабе она возглавила агиторготдел.
На данном посту Лебедева особенно пригодилось осенью. Разгромленные армии Колчака отступали, и был взят курс на всеобщее восстание. Партизаны усилились, осмелели, начали выходить в густонаселенные районы, и требовалось организовать их, скоординировать действия, подчинить центральному руководству. Но еще послушает ли таежная братва городского агитатора? Могли вообще «шлепнуть», если не по шерсти придется. Другое дело — зажигательная «товарищ Маруся», которая и по фени загнет, и стакан самогона не морщась опрокинет, да и от предложения командира «отдохнуть с дорожки» в его избе, пожалуй, не откажется. Причем поставит дело так, что этот командир подчинится ее превосходству.
В конце 1919 — начале 1920 г., когда власть Колчака пала, весь российский Восток взорвался заговорами, восстаниями, переворотами. На огромных пространствах образовалась мешанина правительств и властей, не признающих друг друга. Территории западнее Байкала подчинила Российская советская республика. Но большевики боялись войны с Японией, поэтому родилась идея отгородиться от нее «буферным» марионеточным государством с иллюзией многопартийности и демократии. На переговорах командования 5-й Красной армии с Сибирским ревкомом и эсеро-меньшевистским Политцентром было принято решение о создании Дальневосточной республики (ДВР) — первой ее столицей стал Верхнеудинск (Улан-Удэ).
По соседству с ДВР, в Чите, все еще удерживался атаман Семенов, которому Колчак номинально передал власть на «Восточной Окраине». Во Владивостоке 31 января в результате переворота к руководству пришла Земская управа — коалиционное правительство из эсеров, меньшевиков, земцев и коммунистов. Причем они, в том числе и коммунисты, ни о какой ДВР знать не желали. Считали только себя «законной» властью от Байкала до Тихого океана. Ну а в промежутке между Владивостоком и Семеновым, в Приамурье, буйствовала партизанская вольница, не признающая ни «соглашательской» ДВР, ни «буржуйской» и «прояпонской» Земской управы. Просто захватила Хабаровск и Благовещенск, била тех, кого считала нужным, и провозглашала на занятой территории «советскую власть». Разумеется, в том виде, как понимала ее сама, — «грабь награбленное».
В январе 1920 г. приамурская партизанская масса разделилась. Одна часть, кое-как поддающаяся воздействию большевиков и сохранившая некое подобие дисциплины, во главе с Лазо двинулась на Владивосток. Формально ее даже включили в состав НРА — создаваемой Народно-революционной армии ДВР. Хотя на деле статус этой группировки оставался довольно странным. Во Владивосток ее на пускали японцы, с которыми ДВР поддерживала нейтралитет. Партизаны окопались по соседству — в Спасске, Имане. Им, по идее, следовало стать опорой местным коммунистическим силам. Но во Владивостоке коммунисты предпочли союз с социалистами и буржуазией, даже считали это крупным своим успехом, а ДВР повиноваться не хотели. Вдобавок армию Земской управы составили колчаковские части, перешедшие на ее сторону, — так что новоявленные «союзники» посматривали друг на друга довольно косо.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
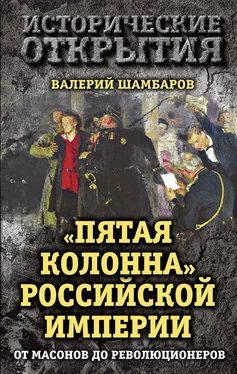
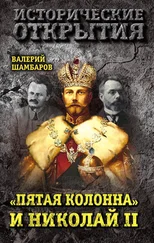
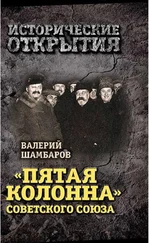

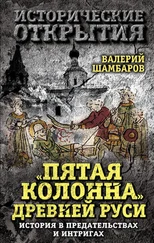
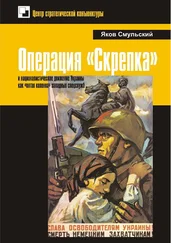
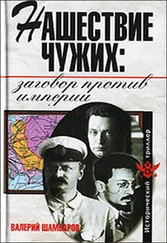
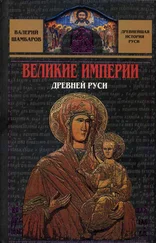
![Дмитрий Калюжный - Другая история Российской империи. От Петра до Павла [= Забытая история Российской империи. От Петра I до Павла I]](/books/325656/dmitrij-kalyuzhnyj-drugaya-istoriya-rossijskoj-imperii-thumb.webp)