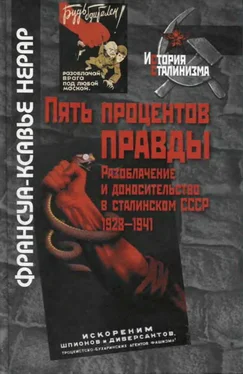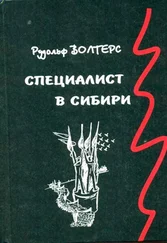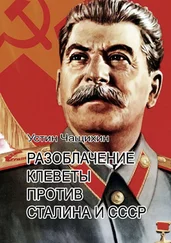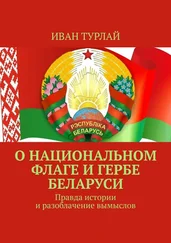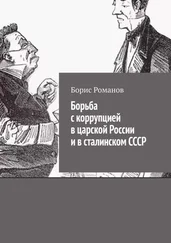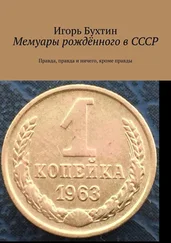«Надо наказать пару директоров, 2–3 совхоза наиболее безобразных надо ударить. Ни один год не было такого безобразия с заработной платой. И опубликовать в печати. Курск, Воронеж взять и совхозы. Одинцова [110] Нач. Главсахара НКППрома.
наказать, без этого обойтись не можем» {377} 377 ГА РФ. Ф. 7511. Оп. 1. Д. 157. Л. 92.
.
Логика та же самая: надо быть «конкретным», указывать на «конкретных носителей зла». В 1937 поиск «саботажников» и «врагов народа», который становится основным занятием населения, вписывается в эту тенденцию: если в первом квартале результаты работы черной металлургии были неудовлетворительными, немалую роль в этом сыграла «гнилая работа» директора керченского завода Глинки — «этого болтуна и пьяницы, на днях разоблаченного в “Правде” как покровителя троцкистов» {378} 378 Правда. 7 июля 1937. С. 3.
. Можно множить примеры такого способа решения проблем, этого немыслимого поиска ответственного, чьими промахами можно было бы все объяснить. Учреждения, в обязанности которых входит работа с жалобами, берут на вооружение этот подход и обеспечивают его распространение в обществе. Динамика с 1928 и до конца тридцатых годов, однако, весьма ощутимая. То, что во времена самокритики является лишь призывом, постепенно становится обязательным: больше не нужно разоблачать бюрократизм, но следует выводить на чистую воду врагов народа. И это значительное изменение.
На протяжении тридцатых годов власть много говорила о методах информирования и разоблачения. Основные положения формулируются в 1928–1930 годах, цель проста: сделать максимально распространенной практику информирования власти. Все начинается с языка: слова, которыми называются соответствующие действия, должны быть освобождены от каких бы то ни было нравственных коннотаций. Исчезновение слова «донос» из «рабочего словаря» большевиков позволяет увеличить число других обозначений и поместить практику доносительства в атмосферу некоторой неопределенности. Чтобы максимально расширить круг потенциальных доносителей, в официальном дискурсе старательно избегают установления слишком строгих рамок подобной деятельности: сигнал, таким образом, может быть подан любым человеком, он может быть анонимным, коллективным или подписанным отдельным лицом. Хотя власть и обозначает свои предпочтения, она никого не клеймит. Кроме того, она предлагает населению многочисленные инстанции, куда можно обратиться, и круг их значительно шире собственно политической полиции.
Единственная, но весьма значимая область, относительно которой официальные тексты содержат более определенные указания, — это содержание сообщаемой информации. Предлагаемые темы относительно широки и позволяют населению говорить о большинстве явлений повседневной жизни. Они характеризуются, однако, слабой степенью обобщенности, или, если даже это не так, легко позволяют перейти от общего к частному. Власть на самом деле выступает за персонализацию ответственности: вина лежит на отдельных людях.
Эта тенденция становится все более явной, все более отчетливо выраженной. В начале тридцатых годов власти довольствуются разоблачениями в самом широком смысле этого слова, постепенно они все более и более определенно требуют доносов. Понятие «сигнала» — не единственный способ широко внедрить эту практику. Прежде всего власть старается обеспечить ей популярность, всячески поощряя ее.
ГЛАВА 6.
Как внедряется практика
Исследуя кампанию критики и самокритики, мы увидели, что власть сознательно и целенаправленно широко внедряет доносительство; проявлений недовольства и критических высказываний не просто ждут, их провоцируют, пытаясь в то же время контролировать формы их выражения. Власти не только намечают контуры того, что им хотелось бы получить с точки зрения содержания и формы. Создается целый механизм, предназначенный развивать и навсегда закрепить эту деятельность, сделав ее частью жизни советских граждан. Речь, однако, не идет о том, чтобы создать на пустом месте совершенно новую форму поведения. Основы подобной практики, как мы видели, сложились в давнем прошлом России и получили «новое дыхание» в первые годы советской власти. Как же отныне советское государство будет пользоваться всеми имеющимися у него рычагами (право, пропаганда, административные органы), чтобы поддерживать и контролировать практику доносительства? Как убедить советских людей преодолеть свои сомнения? Идет ли речь только о том, чтобы подтолкнуть их к действию, или рассматривается также возможность принуждения?
Читать дальше