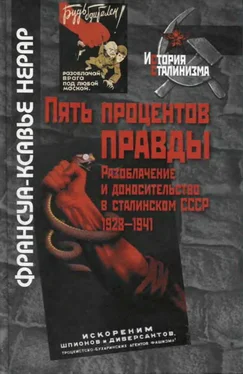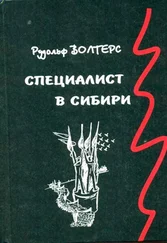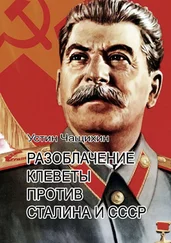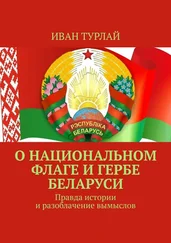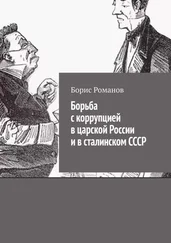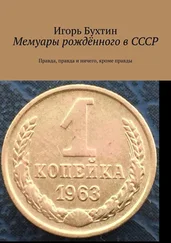Анализ архивных материалов наводит также на размышления относительно самой природы доносительства в сталинском СССР. Документы, которые мы находим в доступных нам и открытых архивах, не соответствуют ожиданиям. Не существует или почти не существует писем-доносов, какими они представлены в фильмах или художественных произведениях. Нет или почти нет анонимных коротких, резких записок. Обычно можно найти обширные, аргументированные и подписанные заявления. Характерные для доносов обвинения часто включены в длинные письма-жалобы. Если перед нами лежит письмо, адресованное высшему начальству с жалобой на чье-либо несправедливое решение (например, на незаконное увольнение [6] Случай, чрезвычайно часто встречающийся среди писем, например, к B. М. Молотову.
), при этом автор решения назван по имени, и его обличают в недостатках или наказуемых действиях, нужно ли говорить о доносе?
Определение термина «dénonciation», которое дает в статье, специально посвященной этой проблеме, Люк Болтански, позволяет продвинуться вперед в ответе на этот вопрос {9} 9 Boltanski L., Darre Y. et Schiltz M.-A. La dénonciation //Actes de la Recherche en Sciences Sociales. Mars 1984. № 51. P. 3–40.
. Болтански исходит из двух значений, которые этот термин имеет во французском языке: первый, самый обычный, является синонимом слова «délation» — «донос» (доведение до сведения властей информации о наказуемых действиях отдельных людей с целью причинения им вреда), и второе, более широкое, которое включает также разоблачение несправедливости или ситуации, которая представляется недопустимой [7] Французский термин, как видим, оказывается, благодаря своей внутренней форме и емкости, чрезвычайно функциональным для данного анализа, т. к. включает в себя как публичное, так и тайное информирование, ничего не сообщает ни о мотивах поступка ни о форме высказывания — письменной, устной, о том или ином конкретном жанре обращения. Кроме того, от соответствующего корня легко образуются существительные со значением актора и лица, являющегося объектом действия (информирующего и того, о чьих заслуживающих санкций поступках идет речь), что позволяет с достаточной гибкостью описывать взаимоотношения, возникающие в ситуации доносительства. В русском языке не представляется возможным подобрать единый эквивалент, стилистически нейтральный и покрывающий столь же обширное поле значений. Поэтому при переводе мы будем, в зависимости от контекста, использовать более конкретные обозначения: «сигнал», «разоблачение», «обращение», «жалоба», «письмо во власть», постаравшись при этом сохранить важное для данной работы противопоставление всех этих обозначений собственно «доносу» — «délation» (прим. пер.).
. Это двойное определение позволяет более точно подойти к документам, которые были найдены в архивах. Оно позволяет также воздержаться от морализаторского подхода к проблеме.
В течение очень длительного времени доносительство не могло стать по-настоящему предметом исторического исследования, так как те, кто пытались его изучать, открыто вставали на ту или иную нравственную позицию. Историк же должен изучать свой предмет с научной, а не нравственной точки зрения. Корни подобного, эпистемологического, препятствия, без сомнения, заключаются в ценностях нашего общества. Донос единодушно осуждается как презренный и постыдный поступок, несмотря на то, что он существует и часто поощряется государством (можно вспомнить «призыв свидетелей» в полиции или использование «осведомителей» в налоговой администрации). Такой подход приводит к тому, что многие авторы считают доносчиков «морально испорченными» {10} 10 Conquest R. The Great Terror. P. 382.
. Другие говорят о «презренном» {11} 11 Fainsod M. Smolensk under the Soviet Rule. P. 218.
поведении или о поступке «морально» наказуемом и «этически» подлежащем осуждению {12} 12 Czechowski N., Hassoun J. La Délation: un archaïsme, une technique. Paris, 1987. P. 4.
. В наши намерения не входит, естественно, реабилитация доносчиков и доносительства в СССР, это было бы нелепо. Но мы попытались очертить границы этого явления и описать его как можно более объективно.
Географические области и исторические периоды, в которые доносы играли важную роль, весьма разнообразны, например, во Франции во время Великой французской революции или в период оккупации, в Италии эпохи фашизма, в нацистской Германии или в США времен маккартизма [8] В этой работе мы намеренно, за исключением нескольких отдельных случаев, вынесенных в примечания внизу страницы, избегали сопоставительного анализа. В библиографии можно найти ссылки на работы, посвященные большинству других примеров информирования властей и доносительства в истории: эти работы были нам полезны в процессе наших размышлений, постановки вопросов. Но все же настоящая сопоставительная работа требовала бы совместного проекта нескольких исследователей — специалистов, занятых ответами на общий список вопросов. Примером подобной увлекательной работы был коллоквиум в Чикаго, организованный Шейлой Фитцпатрик и Робертом Джеллатели. Труды этого коллоквиума, первоначально опубликованные в «Journal of Modern History», собраны в фундаментальной работе Fitzpatrick Sh., Gellately R. (eds.). Accusatory practises… Сообщения касались Великой французской революции, России в XIX веке, сталинского СССР, Третьего рейха.
. Но нигде как в сталинском СССР — и это особенно ясно при сравнении с другими тоталитарными режимами — нет такого повсеместного обращения к власти с целью ее информировать, не сводимого к доносу в узком смысле этого слова, и это и составляет его специфику. Быть может, корни этого явления следует искать в более отдаленном от нашего времени периоде российской истории? Доносительство не рождается в России вместе со сталинизмом. Восстание и насилие никогда не были единственным способом взаимодействия между народом и властью {13} 13 Клаудио Серджо Инжерфлом хорошо показал в своей статье, какую значимую роль в коллективном действии имеет писаное слово. См.: Ingerflom С. S. Entre le mythe et la parole: l'action. Naissance de la conception politique du pouvoir en Russie // Annales Histoire. Sciences Sociales. Juillet-août 1996. № 4.
. На территориях, которыми правил русский царь, письменное заявление всегда было важным средством донести до властителей жалобы, недовольство населения, но также и запрещенные речи, произносимые злонамеренными подданными. Сообщать властям о том, где что не так, было не только допустимо, это поощрялось. Каково значение этого наследия? Какую роль оно сыграло в упрочении доносительства?
Читать дальше