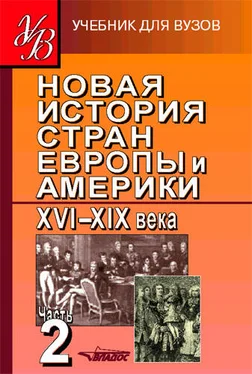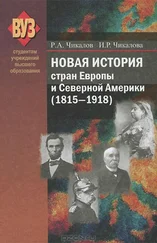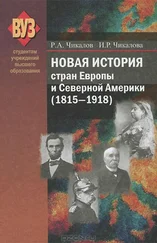Первые 30 лет существования Нового Южного Уэльса его управление носило военно-полицейский характер. Губернатор обладал поистине диктаторскими полномочиями: он назначал всех чиновников местной администрации, ведал юстицией (ему подчинялись местные гражданские и уголовные суды) и фактически полностью руководил экономической жизнью колонии. Военные в этот период пользовались привилегированным положением, что выражалось прежде всего в создании благоприятных условий для развития их частных хозяйств: офицерам предоставлялись участки размером в 100 акров, солдатам – в 50, в течение 10 лет им бесплатно выдавались средства для обработки земли, семена и продукты питания. Свободные иммигранты и отбывшие свой срок заключенные также получали поддержку от государства и земельный надел в виде дара, не превышавший размера 100 акров. Но система эта просуществовала недолго. В августе 1824 г. была окончательно установлена практика продажи коронных земель, которая положила начало массовому притоку свободных иммигрантов в Австралию и череде земельных спекуляций.
Уже в начале XIX в. среди населения колонии появились требования демократизации управления, и в 1823 г. правительство метрополии частично ограничило власть губернатора, создав Законодательный Совет из 5–7 членов, назначавшихся министерством колоний и имевший исключительно совещательные функции. Дополнительная инструкция к акту 1823 г., изданная двумя годами спустя, распространяла власть губернатора Нового Южного Уэльса на Землю Ван Димена, где его представлял особый помощник. В обеих колониях создавались Исполнительные советы, также в некоторой степени ограничивавшие губернаторскую власть. Акт реформировал существующую в колониях судебную систему: учреждались высшие суды, главы которых назначались указом короля. Была предусмотрена и возможность пересмотра любого местного закона британским парламентом в течение трех лет. По мере возникновения новых колоний на территории Австралии на них распространялась аналогичная с Новым Южным Уэльсом система управления.
В 30–40-е гг. XIX в. политическая жизнь австралийских колоний заметно активизировалась благодаря притоку свободных иммигрантов. Ради привлечения новых переселенцев колонисты в 1835 г. создали специальный денежный фонд по финансированию их переезда из Англии, просуществовавший до 1856 г. В результате с 1820 по 1850 гг. в Австралию прибыло свыше 200 тыс. свободных иммигрантов, и к началу 50-х гг. XIX в. все население переселенческих колоний Британии там превысило 400 ты. человек. В результате уже к 40-м гг. в социальной структуре австралийского общества значительно повысился удельный вес собственников, поэтому, если раньше группировки местных «тори» и «вигов» поддерживали противоположные установки – первые настаивали на введении олигархического строя и недопущении бывших преступников к политической жизни, а вторые активно выступали за самоуправление колоний и создание системы представительства с участием отбывших свой срок заключенных – то к началу 40-х гг. их требования унифицируются, и они поддерживают общую идею реформы управления и защиты интересов собственников. Все активнее раздавались требования к правительству метрополии изменить отношение к Австралии как к месту ссылки преступников, и расширить возможности для свободного освоения этих территорий.
В новых условиях британское правительство вынуждено было пойти на определенные уступки. Серия парламентских актов (1842, 1850, 1855 гг.) последовательно расширяла состав и полномочия законодательных советов, отныне на 2/3 избираемых на основе имущественного ценза, реорганизовала систему местного управления, вводила пост генерал-губернатора и т. п. Однако новое законодательство было не в состоянии удовлетворить важнейшие требования колонистов, заинтересованных в расширении свободы экономической деятельности и подлинной самостоятельности в принятии внутриполитических решений.
Ведущей отраслью экономики британских колоний в Австралии с момента возникновения и практически на протяжении всей их истории являлось сельское хозяйство, специфика развития которого определила место континента в системе международного разделения труда. В XIX столетии в условиях промышленного переворота экономика метрополии испытывала растущую потребность в источниках сырья для развития фабричной системы. Поэтому территория Австралии, по-прежнему продолжавшая оставаться преимущественно местом ссылки преступников, начинает рассматриваться также как гигантское пастбище по производству шерсти для английской текстильной промышленности. Это обстоятельство подталкивало жителей «белых» колоний к занятию овцеводством. Первые овцеводческие фермы были созданы Дж. Маккартуром и С. Мерсденом еще в 1797 г., и с этого времени разведение овец начинает завоевывать ведущее место в хозяйстве Австралии. В погоне за растущей прибылью австралийские фермеры демонстрировали упорное стремление к расширению пастбищных площадей.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу