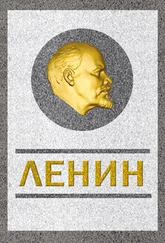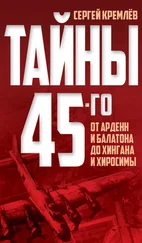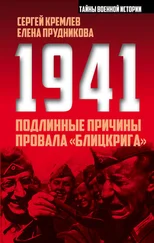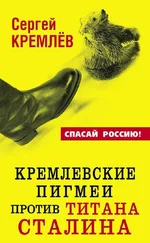«Квиетизм» (французское quiétism от латинского quietus – бездействующий) – это религиозно-этическое учение, проповедующее смирение, покорность, пассивное, мистически-созерцательное отношение к действительности, «непротивление злу», полное подчинение «божественной воле». И возникло это учение в XVII веке не в Киеве и не в Костроме, а в Испании и Франции, где его проповедниками были М. де Молинос и Ф. Фенелон.
Какое отношение к этому взгляду на жизнь (если это можно назвать взглядом на жизнь ) имели русские князья Дмитрий Донской и Владимир Донской Храбрый, Иван Калита и Василий Тёмный, русские военачальники Боброк-Волынский и Фёдор Басенок, русские купцы Афанасий Никитин и Лука Строганов?
Или это всё не русские люди? Или это – исключительные личности, которых из года в год и из века в век окружало «унылое однообразие» проникнутой «внутренним бессилием» народной массы?
А кто же тогда, спрашивается, расширял с XV века русские пределы? Кто основывал новые города, строил крепости и храмы, шёл на Урал и в Сибирь? Кто ковал плуги и серпы, сеял рожь, ткал льняные холсты, отражал монгольские набеги, презрев принцип «непротивления злу»?
Кто, наконец, добывал те меха, которые везли в Европу не только ганзейские, но и русские купцы? Или вот в Москве с XIV века особо значимыми стали «гости-сурожане» – купцы, торговавшие с Византией и итальянскими городами через гавань Сурожа в Крыму. На принципах мистически-созерцательного отношения к действительности они дальше московских посадов не уехали бы…
Эти деятельные, энергичные, предприимчивые и отважные русские люди были не исключением, а становой силой русского народа. И если бы они не влияли самым непосредственным образом на течение русской жизни, то и будущего у этой жизни не было бы.
Уж как были «пассионарны» – по Гумилёву, все эти Чингизиды и Батугиды, воевавшие из Каракорума, Сарай-Бату и Сарай-Берке «весь мир»… А ведь от их столиц и развалин не осталось… А Москва, которую эти «пассионарии» не раз обращали в развалины, раз за разом восставала из пепла – восставала и в переносном, и в прямом смысле слова.
Увы, лишь немногие из тех образованных русских людей, которые как начали размышлять над русской историей с XIX века, так и размышляют над ней по сей день, поняли это настолько, насколько это надо понять. Свершения народа Ивана-да-Марьи записывают также на счёт народишка ваньки-да-маньки, а отвратительные грехи народишка ваньки-да-маньки сваливают на голову народа Ивана-да-Марьи…
Стóит ли?
Безусловно, в жизни, а не в описанной выше схеме, всё было и есть далеко не всегда так однозначно и непримиримо, как это выше сказано. Иногда Иван (Марья) и Ванька (Манька) уживались в одном и том же человеке, и в разные моменты брали верх то один, то другой. Однако верно отысканная (не придуманная, не измышленная) схема позволяет всё расставить на свои места, а схема «Иван ↔ ванька» не придумана, и поэтому позволяет понять и объяснить многое.
Понимание же – исходная точка верного действия.
Причём надо понять и то, что вековечные Иваны-да-Марьи, кто – полу-инстинктивно, кто – осознанно, не относились к Ванькам-Манькам с отчуждением и высокомерием – они ведь тоже были не чужие, они были свои, русские. Ваньки-Маньки тоже – волей-неволей, работали на будущее России. И Иванам да Марьям их надо было не презирать, а – насколько это возможно – возвышать до своего нравственного и деятельного уровня. Что, собственно, Иваны да Марьи из века в век и делали…
Переходя же от общих соображений к конкретной эпохе, мы видим, что новый – XV, век Русь встретила, имея на великом московском столе старшего сына Донского – Василия I Дмитриевича (1371–1425). Василий княжил с 1389 по 1425 год. И на его на государственной печати уже прочно стояло: «Печать князя великого Василия Дмитриева всея Руси». Впрочем, хан задним числом прислал-таки Василию ярлык на великое княжение, и в этом факте хорошо выявлялась рубежная суть тех лет.
Первый политический опыт Василий получил в 11 лет, когда отцу пришлось отправить его в Орду как заложника-аманата. Из Орды Василию удалось убежать на Литву, где он познакомился с дочерью великого князя литовского Витовта Софьей… В 1390 году Софья стала его женой.
Распределяя по духовной зéмли между сыновьями, Дмитрий Донской бóльшую часть выделил старшему сыну, и его главенство как великого князя «всея Руси» было постепенно признано повсеместно. Великий князь тверской Иван Михайлович дал Василию I клятвенную грамоту о дружбе с ним, великий князь рязанский Фёдор Ольгович (Олегович) обязался почитать Василия I как старшего брата, за что в 1403 году получил от него Тулу.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
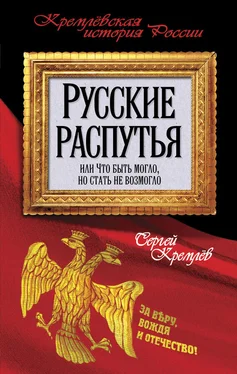
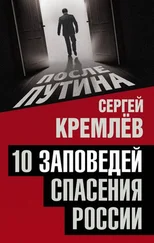
![Сергей Кремлев - Великий и оболганный Советский Союз [22 антимифа о Советской цивилизации]](/books/67304/sergej-kremlev-velikij-i-obolgannyj-sovetskij-soyuz-thumb.webp)