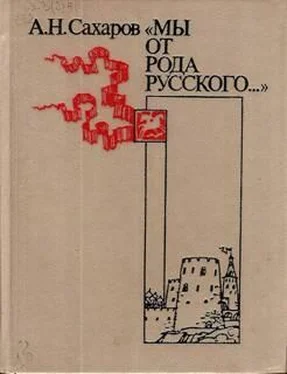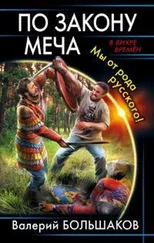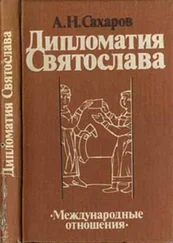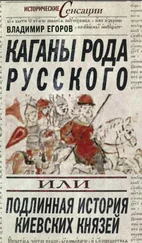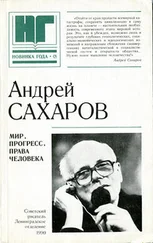Летописец, рассказав о появлении хазарского войска в земле полян, умолчал здесь о других печальных событиях: хазары подчинили себе часть восточно-славянских племен, и лишь из последующего летописного повествования мы узнаем, что дань хазарам платили, например, радимичи.
Эта запись, которая очень близка к легенде, в то же время вдруг высвечивает один характерный дипломатический аспект. В древности в ходе мирных переговоров весьма часто использовалась вещная символика, происходил обмен оружием, совершались клятвы на священных предметах и т. д. И вот тут-то абсолютная, кажется, легенда вдруг выступает в качестве реального события: хазары подступают к Киеву, не могут взять его укрепления, расположенные на высоких горах, и требуют от полян дани. Те решительно им отказывают и в знак вызова, в знак войны преподносят врагам меч. В дальнейшем мы еще не раз столкнемся с этой символикой, и она перестанет нас удивлять, но в этом месте летописи она упоминается впервые. Любопытно, что и сам летописец
воспринял это издревле дошедшее до него известие как легенду и изложил его в эдакой аллегорической манере. Как он, вероятно, удивился бы, узнав, что за этой аллегорией скрывается обычное ритуальное действо, означающее отказ от мирных переговоров, означающее войну.
Так неожиданно мы узнаем, пусть и в несколько необычной форме, еще об одних переговорах руссов со своими соседями задолго до образования Древнерусского государства. Поляне здесь выступают уже не как племя (да они, согласно летописи, не были таковым уже ко времена Кия), а представляют собой какое-то государственное образование. Пожалуй, наряду с записью о Кие это наиболее раннее известие о проявлении полян-ской государственности, и поразительно, что она отражается, как и в случае путешествия Кия в Царьград, в области дипломатии. Видимо, в сфере внешней политики складывающееся государство заявляло о себе наиболее впечатляюще для потомков, удивленных его первыми деяниями.
Другое такое раннее известие относится уже к Новгороду.
В греческом житии святого Стефана Сурожского, бывшего долгое время архиепископом в византийской колонии в Крьшу — городе Суроже {нынешнем Судаке) — и умершего в 787 году, рассказывается о «чудесах», которые творил святой при жизни и после смерти. II вот к его посмертным чудесам авторы жития относят исцеление в Суроже новгородского князя Бравлина. Как он попал туда, чем занемог?
Оказывается, русская рать во главе с Бравлином вторглась в пределы византийских владений в Крыму. Она прошла огнем и мечом по Крымскому побережью, Руссы повоевали византийские владения от Херсоиеса до Керчи и «с многою силою» подступили к Сурожу. Русская рать была «велика», а князь «спленъ зело».
Десять дней продолжалась осада этой крупной византийской крепости. Наконец, проломив железные ворота городской стены, руссы ворвались в город и начал л грабить его. Бравлин попытался захватить богатства местного храма святой Софии, где находилась гробшша Стефана Сурожского. Там хранились драгоценная золотая н серебряная церковная утварь, «жемчуг», «злато», «камень драгий», а также «царьское одеяло», оправленные в дорогие оклады иконы.
Вот тут-то, у гробницы святого, и начались «чудеса1*, Бравлина поразил внезапный недуг—«обратися лице его назад». А далее началось самое удивительное. Новгородский князь по просьбе местных христиан приказал прекратить разграбление города, вернуть сурожанак отнятое у них добро и отпустить восвояси пленных, захваченных во время похода. И тут же лицо русского вождя вновь приняло нормальное положение. Это чудесное исцеление князя и его неожиданные действия автор жития отнес на счет влияния святого Стефана Сурожского. Затем он сообщает, что пораженный Бравлш? принял крещение и акт крещения совершил над ним не кто иной, как сам архиепископ Филарет, преемник Стефана Сурожского на архиепископской кафедре.
Вся эта история была дружно оспорена западными и отечественными норманистами всех мастей; особенно рьяно выступали против достоверности этих событий бельгийский ученый Аирн Грегуар и его ученики и последователи, в том числе современная французская исследовательница Ирэн Сорлен. Они с возмущением писали о том, что в конце VIII — начале IX века, когда происходили описанные события, не могло быть и речи ни о каком новгородском князе, ни о какой русской рати, ни о каком походе. А главное, и в этом был в?сь гвоздь полемики,— ни о какой древнерусской государственности, Сама мысль о возможности существования in Руси государства, князей до так называемого признания варягов, до пришествия Рюрика и его братии для норманистов отечественных и зарубежных была невыносимой. Научные интересы были принесены в жертву интересам идеологическим. Объявлялось, что автор жития просто-напросто перенес историю позднейшего похода великого киевского князя Владимира Святославича (против крымских владений Византии) и его (тоже спорного) крещения в Херсонесе на более раннее время. Вот и все объяснение. Норманисты даже не удосуживались выяснить, почему же в житии речь идет не о Херсонесе. а о Суроже, до которой рать Владимира, как известно, не доходила.
Читать дальше