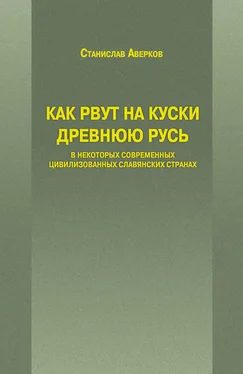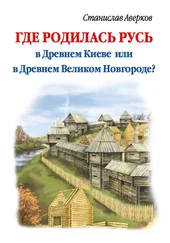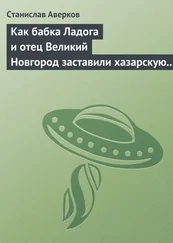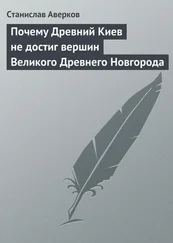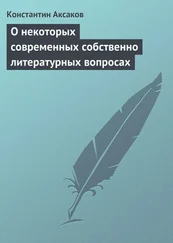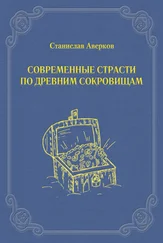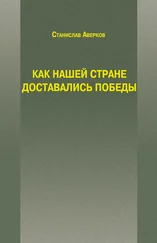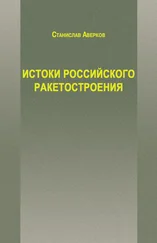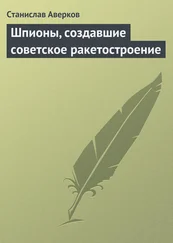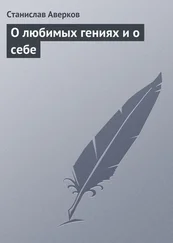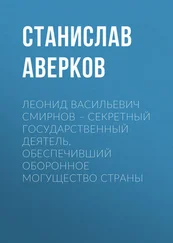«Новгородцы же печалились об этом», наивно прибавляет летописец, видимо, недоумевая, чего же этому князю было нужно?
Но князья это, конечно, хорошо понимали и под конец приспособились к новым порядкам тем, что перестали вовсе жить в Новгороде, держа там наместников, а сами наезжая лишь время от времени. Благодаря этому хроническому отсутствию князя, предпочитавшего сидеть на своем родовом уделе, где он был полным хозяином, отношения вечевой общины к своему «господину» («государем» новгородцы отказывались называть своего князя – государь в Древней Руси был у холопа, а новгородцы были люди вольные) принимали весьма своеобразный характер.
Читая договорные грамоты Новгорода с князьями, иногда можно подумать, что читаешь документ из области международных отношений – так четко проведена линия, отделяющая носителя власти от подвластных, и таким чужим выступает перед нами князь по отношению к Новгороду.
Нормы государственного права, установившиеся в Новгороде около первой половины XIII века, означали собою прежде всего полный разрыв с патриархальной традицией, и в этом их не только местно новгородское, но общерусское значение. Патриархальная идеология не знала различия между хозяином и государем, правом собственности и государственной властью: в новгородских договорах с князьями это различие проводится так резко, как едва ли встретится нам на всем дальнейшем протяжении русской истории.
Новгород принимал все меры, чтобы князь не мог стать собственником ни пяди новгородской земли, ни одного новгородского человека. Ни он, ни его жена, ни его бояре не могли покупать сел в Новгороде, а купленное должны были вернуть. Ни сам князь и никто из его людей не мог принимать закладников в новгородской земле – «ни смерда, ни купчины».
Торговать с немцами он мог только через посредство новгородцев.
Если ему предоставлялась какая-нибудь привилегия, пределы ее точно оговаривались. Так, он мог ездить на Ладогу ловить рыбу, но только раз в три года. Мог ездить на охоту в Руссу, но только осенью, а не летом. Имел исключительное право бить диких свиней, но только не далее шестидесяти верст от города, дальше «гонити свиней» мог всякий новгородец.
Словом, у новгородского князя не было никакого повода счесть себя хозяином новгородской земли. Употребляя древнеримское выражение, новгородский князь был первым магистратом республики, и, по-видимому, так это и понималось общественным мнением Новгорода. Недаром летописец вкладывает в уста Твердислава Михалковича, в известном уже нам споре, такую фразу: «А вы, братья, вольны и в посадниках, и в князьях».
Между князем и посадником не было различия по существу: и тот и другой пользовались властью только по полномочию города, и до тех пор, пока город сохранял за ними это полномочие».
Действительно, Великий Новгород был родоначальником демократии на Руси! Но по теории М.Н. Покровского свою демократию он должен был бы потерять сразу же после того, как перестал бы быть Господином Великим Новгородом из-за того, что его северные колонии были бы завоеваны Московским княжеством. Так оно и случилось. Все это доказывает, что законы торгового капитализма никто не мог отменить. Нет колоний, то есть нет источников добывания капитала (товара для продажи) – нет и капиталиста.
4. Древний торгово-капиталистический Великий Новгород был устранен с торгово-капиталистической и политической арены Средневековой Руси по законам торгового капитализма, правящим и поныне
В XV веке в Средневековой Руси самой злободневной проблемой была, как ни судите, как не рядите, но экономическая. Господин Великий Новгород владел несметными экономическими богатствами на Севере Руси. Чтобы Москва прекрасно развивалась, ей были нужны такие же экономические сокровища. Где их взять? За решение этой проблемы взялся Великий князь московский Иван III. Он был одни из самых выдающихся деятелей отечественной истории, создателем Московского государства и его символа – московского Кремля.
Великий московский князь Иван III был настоящим потомком Ивана Калиты. Он обладал всеми свойствами, какими отличались лучшие московские князья – собиратели Русской земли. Как и они, он был экономистом высшей пробы. Он был холодным, скрытным, осторожным, расчетливым государственным деятелем, понимавшим, что Московское княжество способно выстоять в междуусобных войнах только тогда, если будет экономически сильным. Что нужно для подъема экономики Москвы? То же, за счет чего процветал многие века Господин Великий Новгород!
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу