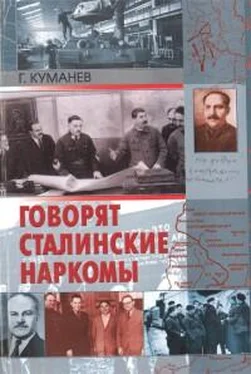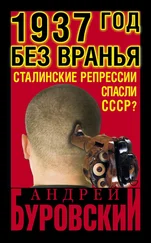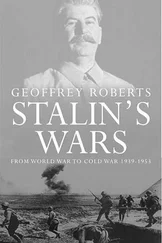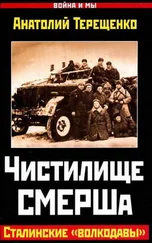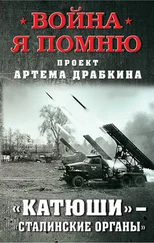Может быть, все это мелочь, но предоставленные мне права здорово помогали в работе.
Еще несколько слов о моей дальнейшей работе. Начиная со Сталинградской битвы (где я провел два месяца), в последующие месяцы и годы войны мне довелось почти непрерывно находиться на фронте, куда я впервые прибыл в начале октября 1941 г. Иногда приходилось прилетать в Москву на заседания Совнаркома. А работа была поставлена таким образом. На фронте у меня была в подчинении по линии Главного управления связи красной Армии авиационная дивизия связи. Самолеты ежедневно курсировали на всех фронтах и в штабы всех фронтов, в том числе курсировали и туда, на тот фронт, где в это время находился я. Вся правительственная почта, важные директивы и постановления доставлялись мне ежедневно и после ознакомления и обработки этих документов, принятия решений в тот же день они доставлялись обратно самолетом.
А здесь, в Москве, в Наркомате связи, очень хорошие мои заместители, помощники решали все основные вопросы, за исключением ряда оперативных, требующих моего личного участия.
Таким образом, вот это решение, принятое в ночь на 22 июля
1941 г., помогло мобилизовать в ту труднейшую пору все ресурсы связи: и человеческие, и материальные в интересах фронта.
При этом кадровые вопросы решались легко. Я имел полное право и возможность того или иного руководящего специалиста по связи с фронта направить на его прежнюю (до ухода в Красную Армию) должность, в том числе в Наркомате связи.
Когда мы занимались восстановлением хозяйства связи, я львиную долю связи давал прямо из «котла» Красной Армии. Так же, как в первую половину войны, не задумываясь, снимали аппаратуру связи с гражданских предприятий и передавали войскам. Этот фактор достоин подражания, и он учитывается в настоящее время.
Г. А. Куманев: Вы рассказывали о том, что в довоенные годы у нас была связь преимущественно по проводам, т. е. «воздушная» связь. А были ли в стране какие–то запасы кабеля, чтобы потом развернуть кабельную связь? Как решалась эта проблема в годы войны?
И. ТПересыпкин: В самом начале войны с кабелем, точнее с полевым кабелем, у нас было очень плохо. В предвоенные годы правительство закупало кабель у англичан. Не так много приобретали, и это не могло решить проблему. Поставки его по ленд–лизу нам существенно помогли. Американцы поставляли нам полевого кабеля в среднем 1 млн. км в год.
Мы получали очень большое количество, в чем особенно остро нуждались, так это зарядные агрегаты. Они поставляли нам зарядные агрегаты 3- и 5-киловаттные. Откровенно говоря, мы в первое время не знали даже, что с ними делать, т. е. не могли их все использовать, такая масса была.
Очень нас выручали поставки автомобильных радиостанций. Американцы вначале их присылали вместе с автомобилями. Потом мы стали получать большие ящики, в каждом из которых был упакован кузов с радиостанцией без автомашины. Сами автомашины американцы поставляли по другой линии. Мы эти автомашины тоже получали и монтировали на них радиостанции.
Довольно много по ленд–лизу было получено телефонных аппаратов: буквально сотни тысяч, причем аппараты из США были хорошего качества и их широко использовало наше командование.
Что касается переносных радиостанций (СР‑284), то они просто не выдерживали критики: были громоздкими, действовали лишь на близкие расстояния, и мы их использовали только как приемники на аэродромах и в войсках ПВО. Каждую такую «переносную радиостанцию» весом до 70 кг в трех упаковках можно было с трудом перенести втроем. Очень тяжелы были. А главное — их тактикотехнические данные не отвечали основным требованиям.
Американцы просили у нас дать лицензию на нашу радиостанцию РБ (это была очень хорошая коротковолновая радиостанция). Потом у нас ее немного улучшили и назвали РБМ. Они просили лицензию и хотя получили лицензию даже на танк, на радиостанцию ее им не дали.
Итак, кабель и зарядные агрегаты для нас были весьма нужными, чего нельзя сказать о переносных радиостанциях.
Г. А. Куманев: Какая была связь Вашего наркомата с НКПС, с железнодорожниками? Они имели автономную связь?
И. Т. Пересыпкин: Да, автономную. У железнодорожников была самостоятельная связь, и мы здесь не вмешивались. Но однажды, когда возникли большие неприятности на Брянском фронте (осенью в 1941 г. танки противника вышли на командный пункт Брянского фронта), когда его штаб, командование потеряли связь со своими тремя армиями, то сразу же последовало решение о том, чтобы установить связь Генерального штаба со всеми армиями. Вот тогда- то в этом решении было мне предоставлено право использовать каналы связи железнодорожного транспорта.
Читать дальше