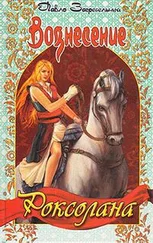Триста отважных не осрамили казацкой славы. Они засели на небольшом островке Журавлихе и бились целый день. Они косили шляхтичей из самопалов, если же какой-нибудь отчаянный человек подбирался ближе, его рубили косами. Не было охочих подставлять себя под пули против смельчаков. От Потоцкого был прислан ротмистр, который крикнул казакам:
- Пан краковский восхищен вашей отвагой и, жалея таких мужественных воинов, дарует вам жизнь, если вы сдадитесь.
- Скажи пану краковскому, чтобы он так не думал про казаков! - ответили ему осажденные. - Не обманете нас обещаниями. Нам жизнь не дорога, а милость врагов мы презираем! Смотрите, как ничтожно для казаков добро мирское! Знайте, что воля для казака дороже всего!
С этими словами они бросили в воду золото и серебро, какое у кого было, и снова взялись за мушкеты.
Потоцкий отправил против них две ватаги. Сам король прибежал смотреть на это редкостное зрелище. Казаки обнялись, прочли молитву и кинулись на врагов. Каждый из них умер, не иначе как убив несколько врагов и промолвив поощрительное слово к своим товарищам.
Все они пали подобно спартанцам царя Леонида. Остался только один, он вскочил в лодку и начал отбиваться косой. Четырнадцать пуль попало в него он жил и оборонялся! Король велел сказать казаку, что он восхищен его отвагой и дарует ему жизнь.
- Я отказываюсь от жизни! - ответил тот. - Хочу умереть, как настоящий казак.
Один мазур с Цехановского уезда забрел в воду по шею, ударил казака косой, а потом добил копьем.
Может, и к лучшему, что никто так и не узнал имени этого казака. Никто не присвоит себе его память, и происхождение от него не принадлежит никому в отдельности, - оно принадлежит всему народу.
Может, это и был народ наш несчастный и мужественный.
В томе шестом "Театра Европы", изданном во Франкфурте-на-Майне Матвеем Мерианом, Иоганн Георг Шледер, рассказывая о геройской смерти нового Геркулеса, безымянного казака, который в одиночку бился против озверевших толп, называет его "московитом".
Так смыкаются в этом герое два побратавшихся народа.
А я ничем не смог предотвратить берестечский разгром.
Посылал универсалы из Паволочи, казаки собирались ко мне тоненькими струйками, с литовской линии не снял никого, потому что Радзивилл неожиданно двинулся на Чернигов, разбил Небабу, потом пошел на Киев, куда впустили его без сопротивления митрополит Косов и архимандрит Тризна, и уже придворный живописец Радзивилла Вестерфельд рисовал наш древний град, а лучше бы он нарисовал мой гнев и отчаяние.
Из-под Берестечка прибежал сотник из шляхтичей Адам Хмелецкий, сразу же кинулся ко мне.
- Все пропало, гетман!
- А табор где? - закричал я.
- Уже черти взяли табор. Бежали мы из табора.
- Как?
- Молодцы биться не захотели.
- А хоругви где?
- И хоругви пропали.
- А пушки?
- И пушки.
- А шкатулы с червонными?
- Про то не ведаю.
Вскоре прибыли полковники - Джелалий, Богун, Пушкарь, Гладкий. Один привел полтораста, другой двести, лишь Пушкарь имел с собою шестьсот своих полтавцев. Горько будут петь про Берестечко:
Кину пером, лину орлом, конем поверну,
А до свого отамана таки прибуду.
- Чолом, пане наш гетьмане, чолом, батьку наш!
Вже нашого товариства багацько не маш!..
- Больше войска нет? - спросил я у них.
- Нет, пане гетман, - сказал Филон.
- Где же оно?
- Все в распорошку пошли, - ответил Богун.
- Или же погибли. Смерть забрала самых мужественных, - добавил Пушкарь.
А во мне умерла молодость. Навеки. Вместе с ними. И с Матроной. Не видел их смертей, но от этого они не были легче. Что могло теперь спасти меня? Гетмана - новое войско и новые надежды. А человека во мне?
- А де ж твої, Хмельниченьку, воронiї конi?
- У гетьмана Потоцького стоять на припонi.
- А де ж твої, Хмельниченьку, кованiї вози?
- У мiстечку Берестечку, заточенi в лози.
Снова я оказался вне времени, будто умер на самом деле. Только Украина не хотела умирать, народ поднимался огненным морем, и когда Потоцкий двинулся из-под Берестечка на казацкую землю для окончательной победы, то нашел только разгром и смерть для своего войска. Но все это случилось словно бы само собой, без гетмана, без меня. Я все еще страдал, никак не мог забыть свою боль. Матрона спит где-то вечным сном и моя любовь обливается кровью под ее неподвижным сердцем. Чем она стала? Дождем, росой, птичьим пением, ветром? Жаль говорить! Я уже знал наверняка, что люди бывают только людьми, пока живы, и, пока живы, могут становиться разве лишь зверями, а мертвые только мертвые, и больше ничего.
Читать дальше

![Павел Загребельный - Русские князья. От Ярослава до Юрия [сборник]](/books/31122/pavel-zagrebelnyj-russkie-knyazya-ot-yaroslava-do-thumb.webp)