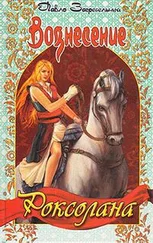Я стоял молча.
- Хочу быть с народом своим, а все один как перст, - пожаловался пан комиссар королевский.
Я подумал: хочешь с народом, а сам - с панами, потому что тоже пан.
Он начал бить поклоны перед пречистой, просил:
- Смилуйся. Ниспошли мне великое одиночество, чтобы мог я молиться истово!
Я подумал: тогда зачем же позвал меня?
Он забыл обо мне, обращался только к деве святой:
- Верни мою чистоту, прозрение таинств, все, чему я изменял и что терял.
Я подумал: зачем же изменял? Кто не изменяет, тот не теряет.
Он еще не закончил своих просьб.
- Смилуйся. Жизнь мою нечем оправдать. Дай мне силы. Ниспошли мне страдания.
Я подумал: сколько же страдать этой земле? Еще не осели могилы под Кумейками, а уже сколько проросло могил свежих над Днепром и Сулою и кровью омываются дороги вслед за Потоцким. Ты же, пане Кисель, страдаешь лишь из-за того, что не можешь обдирать своих взбунтовавшихся подданных.
Он словно бы услышал мои мысли. Оставил божью матерь, сказал мне:
- Бог дал счастливое окончание неприятным антеценденциям - тому, что было. Теперь силу должен сменить здравый смысл. Я хочу сберечь пана писаря.
- Тяжелые у панов перины, - ответил я.
- Nostri nosmet poenitet - сами себя наказываем, как сказал еще Теренций. Но я ведь тоже в этой вере родился и в ней свой век закончу.
- Общая вера еще не дает общей судьбы, пане Кисель.
- Ну, так. Что общего может быть между гультяйством и людьми степенными? Удивляюсь, как этот разгул увлек за собой и пана писаря. Неизмеримо страдаю, видя пана писаря среди тех, которые nihil sacrum ducunt* - которые и веру, и жен, и вольности в Днепре утопили. Забыли слова спасителя: "Всякая кровь, проливаемая на земле, взыщется от рода сего".
______________
* Не знает ничего святого (лат.).
- Слова эти можно истолковать и наоборот, - заметил я. - Может, это именно против панства, которое ело людей, как у псалмопевца: ядят люди моя в снедь хлеба.
Кисель поднялся с колен, стряхнул пыль, встал возле меня, положил мне руку на плечо.
- Пане Хмельницкий! Разве мы с тобой не знаем своего народа? Три вещи вижу я в этом народе неразумном. Первое - его любовь к духовным греческой веры и богослужению, хотя сами они больше похожи на татар, чем на христиан. Второе - что у них всегда больше страха, чем ласки. Третье - это уже общая вещь: любят голубчики взять, если им что-то от кого-то может достаться.
- Почему-то казалось мне, пане Кисель, - заметил я на эту речь, - что грабителем все же следует считать не того, кто сидит на своей земле, а того, кто врывается туда силой. Грех еще и словом насмехаться над этими несчастными, убогими сиротами, жертвами панскими.
Он не услышал моих слов.
- Должны позаботиться о возвращении ласки королевской, так неразумно и преступно утраченной. Рискуете последним теперь, ибо если еще раз придется Речи Посполитой вынуть на вас саблю, то может получиться так, что и само имя казацкое исчезнет: лучше видеть здесь запустение и зверей диких, чем бунтующий плебс. Взбудоражить своеволие можете, но до конца довести никогда! Бежать на Запорожье в лозы и камыши можете, но жен и детей оставите и, будучи не в состоянии выдержать там долго, принесете свои головы назад под саблю Речи Посполитой. А сабля эта длинная, и не заслонят от нее заросшие дороги. Теперь хочу взять пана писаря, чтобы сообща составить и написать субмиссию!
Я догадывался, какая это должна быть субмиссия, хотя и в мыслях у меня не было, что в узкой голове пана Киселя уже составляется зловещая ординация, которая осуществится еще до конца года, в морозах и снегах на Масловом Ставе, где нам придется отречься от всех вольностей своих, права избирать старшину, отдать армату и клейноды - и как же от этого зрелища будет расти у панов сердце, а казацкое сердце будет разрываться, когда хоругви, булавы и бунчуки будут складываться к ногам королевских комиссаров, главным из которых, разумеется, пан Адам Кисель.
- Помолимся вместе, пане Хмельницкий, - попросил Кисель.
- Молился, сюда едучи, да и перед тем молился со всем своим товариществом.
- Слышал я, будто вы, как язычники, чаровниц по валам рассадили, чтобы они чинили колдовство на стрельбу, ветер и огонь. Так что же это за молитвы?
- Посмотрит пан каштелян на валы наши и укрепления и поймет, что ни в молитвах, ни в заклинаниях они не нуждались. Да теперь все это ни к чему. Заканчивай молитву, пане Кисель, не стану мешать.
Снова оказался я под дождем среди тихой травы, что заполнила весь окружающий мир, и сразу же подошел ко мне старый служебник Киселя.
Читать дальше

![Павел Загребельный - Русские князья. От Ярослава до Юрия [сборник]](/books/31122/pavel-zagrebelnyj-russkie-knyazya-ot-yaroslava-do-thumb.webp)