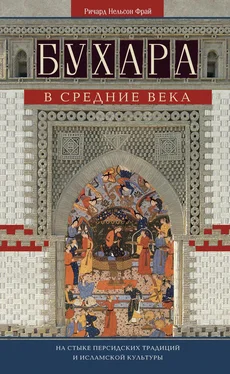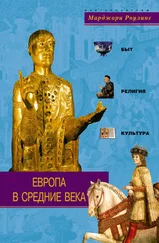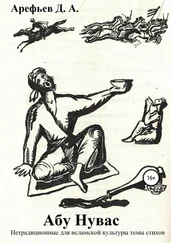При узбекских правителях Бухара пережила возрождение, только оно было чисто местным, без влияния на иранский или персидский мир. Прежнее единство кануло в Лету. Часть прекраснейшего архитектурного наследия Бухары датируется периодом узбекского правления, и с XVI по XVIII столетие наблюдался экономический и культурный рост города. До этого времени, при Тимуре (Тимур ибн Тарагай Барлас (1336–1405) – из монгольского племени барласов; среднеазиатский полководец и завоеватель, сыгравший существенную роль в истории Средней, Южной и Западной Азии, а также Кавказа, Поволжья и Руси; в 1370 г. основал империю Тимуридов со столицей в Самарканде; не будучи Чингисидом, Тимур формально не мог носить ханский титул, поэтому всегда именовался лишь эмиром. – Пер. ) и его наследниках Бухара также процветала, хотя и в меньшей степени, что столица Тимура, Самарканд. При Тимуре происходили интересные события; например, Баха аль-Дин Накшбанди, умерший в 1388 г., основал в Бухаре знаменитый орден дервишей, Накшбандию (одно из двенадцати братств суннитского толка; члены ордена носят колпаки преимущественно белого цвета. – Пер. ). Однако подробное изложение истории Бухары от монгольского нашествия до наших дней должно стать совсем другой, более объемной работой. Домонгольский период изложен мной лишь поверхностно, и при этом много интересных событий было пропущено. История евреев Бухары и марранов, то есть иудеев-мусульман, вообще требует отдельной монографии. По-видимому, евреи довольно давно проживали в Бухаре, хотя место их происхождения неизвестно. По-видимому, вплоть до наших дней они являлись важной составляющей населения. Подобно евреям Ирана, они принимали участие и внесли свой вклад в господствующую цивилизацию, пользуясь персидским как собственным языком общения. Существование различных слоев общества принявших ислам евреев является замечательным примером смешения и способности к адаптации еврейского народа.
Подобно арабам Бухары, которые являлись предметом многих недавних исследований советских ученых, они оставляют немало вопросов по поводу своей долгой истории отдельного существования в селениях оазиса и других местах Трансоксианы. Некоторые арабы, возможно, являются потомками поздних переселенцев в эти области, тогда как других считают происходящими от более ранних переселенцев; однако для прояснения их истории предстоит узнать еще очень многое. И цыгане в Бухарском оазисе также требуют дальнейшего изучения.
Мы не имеем возможности рассматривать здесь то множество вопросов, которые могут быть подняты по поводу поздней истории Бухары после монгольского нашествия. Например, прекрасные современные бухарские ковры приглушенного красного цвета появились, возможно, в результате соединения узбекского стиля с техникой ковроткачества кочевых туркменов, хотя насчет их происхождения мы не имеем прямых свидетельств. Сохранность культурных институтов Бухары после XIII столетия, несмотря на более поздние вторжения и беспорядки, с моей точки зрения, явилась результатом удачного единения исламских персидских и тюркских традиций при Караханидах. Точно так же, как при Саманидах сформировалась единая исламская культура на двух языках, арабском и персидском, так и при Караханидах эта исламская культура смешалась с тюркскими традициями, чтобы создать новую культуру, использующую тоже два языка, персидский и тюркский. И это последнее смешение стало бессмертным памятником Караханидам, на котором построили свою культуру узбеки. Таким образом была обеспечена культурная преемственность.
Для более подробного рассмотрения вышеперечисленных вопросов потребуется другая книга, и, вместо того чтобы продолжать исследование таких заманчивых и любопытных фактов, лучше завершить нашу историю о средневековой Бухаре двумя типично мусульманскими умозаключениями: «Вот что было рассказано, но это далеко еще не все» и «Одному лишь Богу известно все».
Пер. И. Л. Сельвинского.
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу