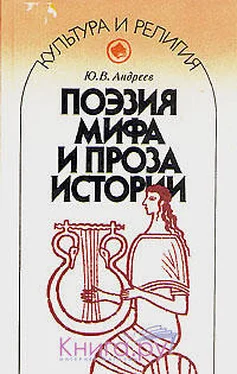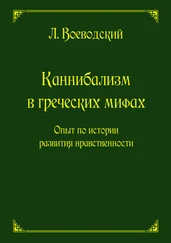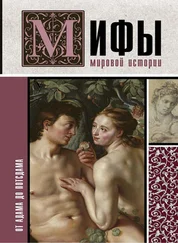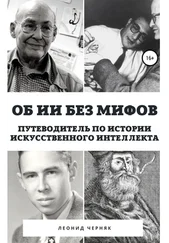Но в образе минойского бога-быка удалось выявить и еще один важный аспект, который прямо указывает на его связь уже не с землей и подземными недрами, а с покрывающим землю небесным сводом. Во время раскопок в Микенах в одной из царских могил Г. Шлиманом был найден великолепный серебряный ритон (сосуд для возлияний) в виде головы быка, на лбу которого красовалась крупная золотая розетка, по всей вероятности представляющая собой условное изображение солнечного диска или, быть может, звезды. Возможно, изготовивший этот сосуд критский мастер (его критское происхождение совершенно очевидно) сознательно подражал в своей работе известным ему изображениям египетского священного быка Аписа с солнечным диском между рогами (сам Апис почитался в Египте как одно из воплощений солнечного бога Ра, хотя не вызывает сомнений также и его тесная связь с божеством земного плодородия Озирисом, о чем мы уже говорили выше). Не отказываясь от этой догадки, признаем все же, что главную роль здесь сыграло давно уже подмеченное учеными сходство египетской и критской (минойской) религий, в которых отдельные божества как бы дублируют друг друга.
На более поздних греческих вазах мы видим фигуру Минотавра, изображенную на фоне небесного свода, усыпанного сияющими звездами. Иногда же, как это ни странно, звезды покрывают тело самого чудовища. Обе эти комбинации заставляют вспомнить о том, что подлинным его именем было не более привычное Минотавр, а сравнительно редко встречающееся в мифах Астерий, или Звездный. Связь образа Минотавра в изобразительном искусстве с различными, как принято называть их в науке, солярными (солнечными) и астральными (звездными) символами наверняка не случайна. О том, что на самом Крите символика этого рода была еще жива и понятна даже в V веке до н. э., свидетельствуют уже упоминавшиеся кносские монеты с вычеканенным на них изображением Лабиринта, в самом центре которых был помещен солнечный или звездный знак. По мифу, Минотавр не только носил как будто совсем не идущее ему имя Астерий, но и приходился родным внуком солнечному богу Гелиосу через свою мать царицу Пасифаю, чье имя имеет столь же прозрачный смысл, как и имя Астерий. В переводе с греческого оно буквально означает «Всем сияющая» или, может быть, «Повсюду сияющая» — имя, как нетрудно догадаться, вполне подходящее для богини Луны, вероятно близко родственной греческой Селене. Другой ипостасью древнего лунного божества, вероятно, может считаться мать Миноса — Европа, имя которой можно понять как «Широко взирающая». Во многих греческих полисах ей воздавались почести, как богине, хотя, согласно мифологической «табели о рангах», она считалась всего лишь героиней.
Итак, мы видим, что обе известные нам по мифам супруги критского бога-быка оказались вознесенными на небо, вероятно, с тем, чтобы именно там вступить с ним в положенный срок в подобающий их сану священный брак, который в этой ситуации становится событием уже подлинно космического масштаба. О вознесении на небо самого божественного быка упоминает римский поэт Овидий:
В ночь перед Идами [11] Иды в римском календаре — 15-е число каждого месяца.
бык, весь осыпанный звездами всходит…
К берегу только тебя он довез, то предстал пред тобою
Богом Юпитер, с главы ложные сбросив рога.
Бык тот ушел в небеса… А с тобою остался Юпитер.
Некоторые характерные детали в этом эпизоде выдают в нем явно позднюю и явно искусственную концовку хорошо известного каждому греку или римлянину мифа о похищении Европы. Юпитер (Зевс), только что доставивший свою драгоценную добычу на критский берег, разоблачается, как актер после удачно сыгранного представления, — снимает с головы накладные рога. Одновременно с этим некий образ быка, очевидно тоже сброшенный богом, как ненужная больше маскарадная одежда, воспаряет к небесам, чтобы навеки застыть там теперь уже в виде созвездия.
Древнейшие обитатели Крита, от которых миф о чудесном соединении бога в образе быка с похищенной им богиней Луны был перенят греками, едва ли нуждались в таких пояснениях к его основному сюжету. Для них, мысливших сложными синкретическими [12] Синкретический — слитный, не расчлененный на составные части.
образами, характерными для первобытного религиозного сознания, одновременное пребывание великого бычьего божества, по крайней мере, в трех совершенно различных местах — под землей, на земле и на небе — не заключало в себе ничего противоестественного или абсурдного. Его явления то в образе страшного владыки преисподней, то в виде усыпанного сверкающими звездами небесного быка не требовали поэтому никаких специальных комментариев.
Читать дальше