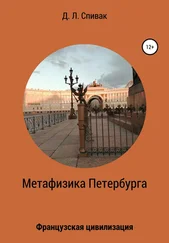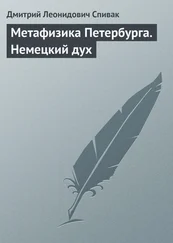Начав от ижорских жрецов, шведских викингов или от византийских монахов, нам предстоит прослеживать нити древних влияний до тех пор, пока они не вплетуться в ткань петербургской культуры. Строго говоря, в каждой такой «точке вплетения» следовало бы остановиться. Ведь как только логика «петербургского мифа» вступает в свои права – говорить о влияниях и истоках уже неправомерно. Однако мы будем следить за избранной нитью и далее, на протяжении всех трех столетий жизни Города, определяя нити, с которыми она сплелась, и узоры, которые при этом образовались. Таким образом, помимо и после рассмотрения субстрата, нам предстоит говорить и об основных линиях собственно «петербургского мифа», безусловно самостоятельного в своих проявлениях. Такой подход тем более целесообразен, что состав этого мифа разработан пока лишь фрагментарно, не создано еще и его систематического курса.
Уже на пространстве этих вступительных замечаний нам пришлось прямо или косвенно говорить о «внутренней логике» истории города, о «саморазвитии» его идеи. Для описания духовных оснований Петербурга эти материи не только необходимы, но и очевидны психологически. Кому не доводилось, вступая в «поле притяжения» крупного города, внезапно ощутить дыхание колоссального организма, почуять присутствие некой сверхчеловеческой воли, неявно, но властно влияющей на поступки, а то и ход мыслей приезжего. Чаще всего дело кончается установлением духовного сродства или отталкивания, реже – нарушением внутреннего равновесия, ведущим к обновлению личности или к ее кризису. Volentem fata ducunt, nolentem trahunt, – говорили древние, – «покорного судьба ведет, непокорного тащит».
Город, действующий как судьба – вряд ли предмет строгой науки. Однако и здесь применимы понятия, выработанные в рамках современной семиотики – науки о знаковых системах. В терминах этой дисциплины, «феномен Петербурга» представляет собой разновидность «замкнутой семиосферы». Само это понятие соотносится с известным биологам понятием биогеоценоза. Его содержание хорошо известно читающей публике. Напомним, что биогеоценоз представляет собой замкнутый круг, состоящий из животных, растений, самых разнообразных организмов и используемых ими природных ресурсов, накрепко связанных тем, что все необходимое для жизни они получают из этого круга, отдавая ему в свою очередь все продукты своей жизнедеятельности.
Разумеется, что прочитав последнее предложение, любой биолог-профессионал немедленно внес бы свои поправки и ограничения. К примеру, он мог бы заметить, что свойством замкнутости обладают скорее не отдельные биогеоценозы, но их совокупность, именуемая биосферой (Тимофеев-Ресовский 1995). Для нас же важнее всего то, что все участники круга зависят друг от друга, никто не лишний, и если каждый отдельный участник в принципе смертен, то круг в целом бессмертен или, по крайней мере, гораздо более долговечен. Действуя по аналогии и вводится понятие семиосферы, только участниками ее считаются отдельные языки, продуктами их «жизнедеятельности» – тексты, а «обмен» таковыми происходит при переводе.
Обратимся к простому примеру. Представим себе, что в старину, еще до основания Петербурга, финские жрецы высаживают где-нибудь на островах невской дельты священное дерево с приличными такому случаю церемониями. Легенда о древе остается в умах местных жителей, обрастая всяческими поверьями и передаваясь из поколения в поколение. Наконец, она доходит до Петра I, который велит срубить священное дерево, а на его месте построить здание, весьма важное для новой столицы. Жители Петербурга сохраняют смутное воспоминание об особой отмеченности этого места, что в конце концов находит свое отражение на страницах повести или поэмы какого-нибудь местного сочинителя, захватывающей умы петербургских читателей, и с течением времени признанной ими за классическую.
С точки зрения семиотики, тут нет ничего, кроме последовательности текстов. Первый из них построен на языке финского ритуала, второй – мифа, третий – петровского ритуала, и так далее, вплоть до последнего текста, созданного на языке художественной литературы. Люди, стоящие на конце каждой такой цепочки, обычно имеют весьма нечеткое представление о ее начале, а узнав о нем – удивляются, какие же в сущности схожие мысли и чувства вызывало одно и то же место у людей, населявших его в самые разные времена. За логикой действий отдельных людей прослеживается логика более высокого, надличного уровня, принадлежащая уже всей семиосфере – или последовательности таковых, как в нашем примере.
Читать дальше
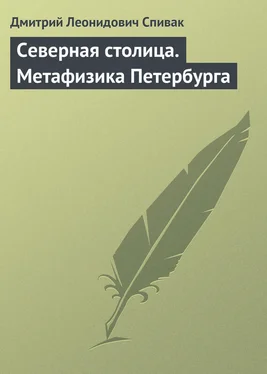
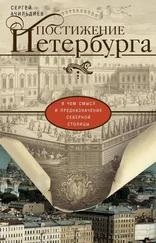

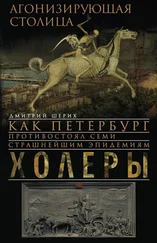


![Дмитрий Билик - Вторая столица [СИ]](/books/421662/dmitrij-bilik-vtoraya-stolica-si-thumb.webp)