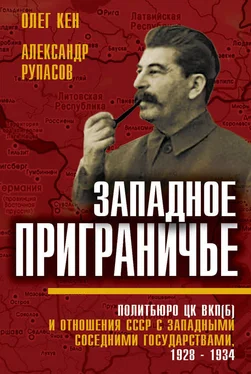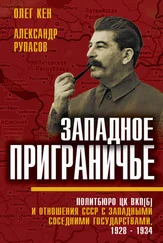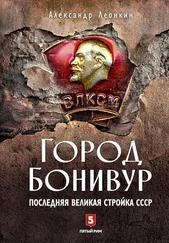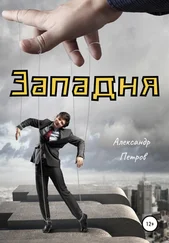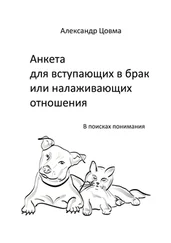Новые исследования и наблюдения позволяют подтвердить издавна существовавшее представление о том, что практика «конспирации» и «сигнализации» «сознательно или бессознательно» использовалась правящим режимом для укрепления и освящения своей власти, придания ей сакральных свойств [46] См. Sheila Fitzpatrick. Ibidem. Н.Н. Покровский уподобил принятие решений «инстанции» «сакрализованному действу» (Н.Н. Покровский. Указ. соч. С.36). Разумеется, в этом нет ничего необычного: «политическая жизнь и церемониал не суть отдельные «вления, одно серьезное, другое поверхностное. Ритуал – не маска силы, но сам по себе способ властвования» (David Canadine. Introduction: divine rites of kings//David Canadine and Simon Price (eds.). Rituals of royalty: power and ceremonial in traditional Societies. Cambridge, etc., 1987. P.19).
. Применительно к сухим протоколам ПБ ЦК ВКП(б) эти характеристики, думается, чрезмерно метафоричны. Несомненно, однако, что поиски устойчивой легитимации и организации власти, занимавшие Сталина и его коллег по Политбюро, во многих важных отношениях следовали проложенными (и замшелыми) историческими тропами. Отрицание принципов, на которых основывались современные государственные институты, заставляло большевистский режим подкреплять властные механизмы архетипическими ритуальными нормами. Архаизация методов управления экономикой в конце 20-х – начале 30-х гг. дала сильный импульс «опрощению», примитивизации способов осуществления власти в целом [47] См.: Andrea Graziosi. The great Soviet peasant war: Bolsheviks and peasants, 1917–1933. Cambridge, Mass., 1996. P. 71–72.
. Почти одновременно завершилось изгнание из правящей элиты «инородных» групп, оппозиционная деятельность которых являлась попыткой, в частности, заставить партийное большинство уважать современные, «парламентские» методы борьбы [48] Достаточно вспомнить, что логика борьбы нечаянно (и скандально) привела Л.Д. Троцкого к тому, чтобы в качестве исторического образца поведения оппозиции избрать Ж. Клемансо – «тигра» классического парламентаризма.
. Осуществлявшиеся под лозунгом «модернизации» перемены обескровили современные элементы культуры большевизма; дискуссия об «азиатском способе производства» и взаимоотношения Петра и Ивана с боярством оказались ближе к актуальной политической проблематике режима, чем французский коммунальный эксперимент 1871 г. Неудивительно поэтому, что официальные записи высшего органа власти несли на себе отпечаток забот, во многом характерных для возносящихся элит традиционных обществ – укрепление социального престижа высшей инстанции, стабильное функционирование иерархически подчиненных уровней власти при одновременном демонстрировании лояльности к старинным родоплеменным институтам (или уставу и традициям большевистской партии – коллективности руководства, партийной демократии и проч.) [49] Сила этих традиционных установлений сказывалась в терминологии, согласно которой деятельность партийных органов, включая Политбюро, направлялась секретарями. Именно в этом качестве протоколы Политбюро подписывались Сталиным, а в его отсутствие Молотовым или Кагановичем. Когда в протоколе Оргбюро (от 27 августа 1928 г.) появилась запись о возложении функций председателя этого органа на Кагановича, Томский немедленно заявил протест. «До сих пор в нашей практике мы избегали института председателей в парторганах, – написал он Молотову. – Правда практически председательство в Оргбюро и Политбюро всегда поручалось какому-либо одному товарищу (Каменев, а потом Рыков – в П. Б., Молотов – в Оргбюро), но таковой формально не являлся председателем П. Б. или Оргбюро». Молотов немедленно извинился зa невнимательность и заверил, что протокол Оргбюро будет должным образом изменен. (Записка М.П. Томского В.М. Молотову, 31.8.1928. – РГАСПИ. Ф. 81. Оп. 3. Д. 255. Л. 97; Записка В.М. Молотова М.П. Томскому, 1.9.1928. – Там же. Л. 98).
.
Особенности языка протоколов Политбюро не только отражают их прикладное назначение и бюрократическую рутину, но и свидетельствуют о формировании дискурса – особого использования языка для выражения устойчивых психоидеологических установок «инстанции». Этот дискурс предполагал и создавал особого «идеального адресата», un Destinaire idéal, по определению П. Серио [50] Основные выводы классической работы Патрика Серио «Analyse du discours politiqui soviétique» (1985) изложены в: Ю.С. Степанов. Альтернативный мир, дискурс, факт и принцип причинности// Ю.С.Степанов (ред.). Язык и наука конца ХХ века. М., 1995, С. 38–44. Благодарим Н.Б. Вахтина, указавшего нам на значимость исследований П. Серис для лучшего понимания этой темы.
, – такого типа «воспринимателя» высказывания, который «принимает все пресуппозиции каждой фразы, что позволяет дискурсу осуществиться; при этом дискурс-монолог приобретает форму псевдодиалога с идеальным адресатом, в котором (диалоге) адресат учитывает все пресуппозиции» [51] Там же. С. 42.
. Тенденция к сжатию смысловых компонентов, являющихся условием истинности суждения (например, анализа международной ситуации), в текстах протоколов возмещалась широкой эксплуатацией прагматической пресуппозиции. Утверждения типа «считать целесообразным при проезде через Париж встречу т. Литвинова с Поль-Бонкуром, если соответствующее предложение т. Литвинову будет сделано» дарили адресату подсознательную уверенность в том, что такое решение является единственно правильным, поскольку смысловое обоснование подменялось прагматической суппозицией – чем-то само собой разумеющимся для источника высказывания (в самом деле, странно было бы отказываться от приглашения встретиться и поговорить, если оно исходит от представителя страны, с которой установились неплохие отношения!). Практика умолчаний приглашала адресата, принявшего эти правила игры, к сотворчеству, достраиванию отсутствующих в тексте компонентов по аналогичному образцу. Желающий «понять» резолюцию «багажа не вскрывать» мог легко дополнить это высказывание известными ему «ввиду нецелесообразности», «мы не заинтересованы в обострении отношений с латышами» и прочими прагматическими (или псевдосемантическими) пресуппозициями. В результате отрывистые монологичные постановления трансформировались в «псевдодиалог» авторов с читателями. Осуществляемые через систему рассылки протоколов и ознакомления с ними, систематические упражнения в заочных вертикальных собеседованиях (в разных формах проходящих через всю советскую эпоху) вырабатывали поистине «идеального» участника социально-языковой игры [52] В «горизонтальном измерении» скудость аутентичной информации при ощущении своей сопричастности деятельности высшей инстанции провоцировала конструирование и распространение собственных версий, слухов (см. ниже).
.
Читать дальше