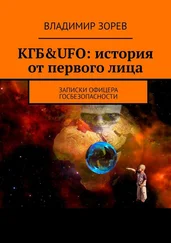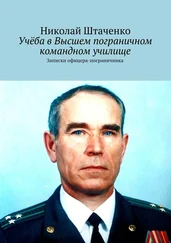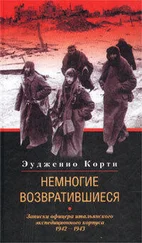Полная электрификация всех улиц нашего поселка была завершена к началу 1963 года. К концу 40-х годов XX столетия в нашем колхозе им. Суворова было только три-четыре автомашины: одна «полуторка», один ЗИС-5 и ЗИС-150.
Наша улица Степная – последняя улица на северной окраине поселка. Ее еще называли Мишуринским клином. За ней шли сплошные колхозные и совхозные поля и посадки.
Ближайшие села нашего района: западнее Лиховки, в 6 км – Липовое; северо-западнее, в 5 км – Верх-Камянистая, правее ее и далее 1 км – Грабовый лес; правее леса и в 8 км от нашей улицы – Билевщина; прямо на север, в 18 км – Мишурин Рог; северо-восточнее, в 6 км – Ганевка; западнее, в 3 км – Бузовая; ближайшие города: прямо на юг, в 30 км – г. Вольногорск; юго-западнее, в 50 км – г. Пятихатки; прямо на восток, в 55 км – г. Верхнеднепровск; на восток, в 70 км —. г. Днепродзержинск (ныне Каменское); 120 км на восток – г. Днепропетровск (ныне г. Днепр)
Мои родители: отец – Штаченко Николай Ефимович 1909 г.р., мать – Штаченко (Похил) Домна Ивановна 1912 г. р. Отец был родом с Кировоградской области, мать – с п. г. т. Лиховка. Когда я родился, отец работал в совхозе им. Кутузова на разных работах: летом – на сенокосилке, упряженной быками, косил траву, занимался прополкой полевых культур (свекла, кукуруза, подсолнечник) на закрепленных участках, зимой – сторожил на полевом току. Мать работала на сезонных работах в летний период в колхозе им. Суворова, занималась домашним хозяйством и нянчила детей, которых до моего рождения было уже четверо. Мои старшие братья и старшая сестра родились в пригороде г. Днепропетровска, в Диевке, до Великой Отечественной войны: Виктор – 20 сентября 1935 г., Владимир – 7 декабря 1937 г., Люда – 5 сентября 1939 г., Анатолий – 25 января 1942 г.
Своих бабушек и дедушек я не знаю. По рассказам родителей, за исключением бабушки, – мамы моего отца – они умерли в 1933 году в период голода на Украине. Часто мама нам в детстве много рассказывала о своих родителях. Отец редко находился дома, рассказы о его родителях были скупые, поэтому я мало что помню о них.
Родители мамы родились и проживали в поселке Лиховка. Дед Иван был участником Первой мировой войны (1914—1918 годов). Ушел мой дед на войну, когда маме не было еще и двух годиков, а вернулся в 1918г. Мама говорила: «Мне было 6 лет, сижу на печке не слезаю, а какой-то мужчина, одетый в военную форму, все ходит по хате взад-вперед. Моя мама мне говорила: „Слезай, не бойся – это твой папа“. А я все из-за угла выглядывала, все боялась слезать. Только через три дня осмелела и, наконец, подошла к отцу».
Мама рассказывала, что в школу она ходила три года; в школе учиться ей хотелось, но ее мама ей говорила: «Школа кушать не даст, садись за прядку и пряди нитки для дорожек». Так что после окончания трех классов больше в школу не ходила.
Знаю я еще, что у моей мамы были: старший брат Иван и младший – Алексей.
Мой отец выходец из большой семьи. У него три сестры – Галина, Ефросинья, Нина, и три брата – Родион, Иван и Григорий. Отец в школу вообще не ходил. Его читать и писать научил старший брат Иван.
После окончания Гражданской войны (1920 г.), помещичью землю поделили между крестьянами, в зависимости от количества едоков, – по 1 десятине на едока. Семья моего деда Ивана получила надел в 5 десятин, что примерно равно 5 га.
Работал дед в летний период каждый день от зари до зари: выращивал и убирал зерновые культуры, овощи, занимался заготовкой сена для худобы и другими работами. На проданные излишки продовольствия, к 1928 г., приобрел пару лошадей, пару тягловых волов, плуг, бороны, сеялку, веялку, две подводы и другой сельскохозяйственный инвентарь. Было две коровы, телка, пара бычков, четыре-пять свиней и десятка три курей. За это время построили новую хату, клуню, накупили и хранили в сундуках много новой хорошей одежды. Но по соседству, то справа – то слева, проживали и такие хозяева, которые ленились заниматься хозяйством, больше пролеживали и пьянствовали, их наделы зарастали бурьянами. Мама рассказывала, что дед ходил к этим лодырям и предлагал: «Послушай сосед, твое поле гуляет, заросло бурьяном, давай я вспашу его и засею, буду обрабатывать, а урожай поделим пополам. Ну, как, – согласен?»
И они, конечно, соглашались на такие условия. Моему деду и старшему брату моей мамы было тяжело одним справляться, поэтому для обработки и уборки урожая дед нанимал на сезон работников.
С 1928 года в стране был принят курс на коллективизацию сельского хозяйства. Начали проводиться сельские сходки крестьян, на которых советскими и партийными работниками, а также сельскими активистами проводилась агитационная работа по вовлечению крестьян в колхозы (коллективные хозяйства). Создавались сельские комбеды (комитеты бедноты) при сельсоветах. Кто же входил в эти комитеты бедноты? Как говорила мама, в комитеты бедноты вступали, в основном, крестьяне, которые ленились работать и обрабатывать свою землю. Они и оказались самыми бедными, зато были активными сторонниками колхозов – там ведь можно за чужими спинами увиливать от работы и лодырничать. Их, вполне, колхозы и устраивали. Трудолюбивые крестьяне, которые стали зажиточными (их называли кулаками и середняками), выступали против создания колхозов. В числе их оказался и мой дед, который часто выступал на сходках против создания колхозов.
Читать дальше
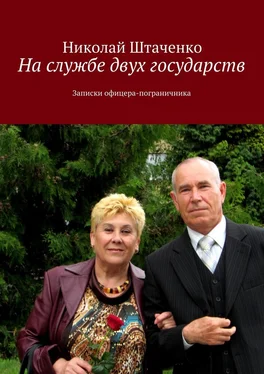
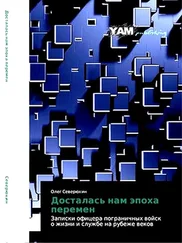
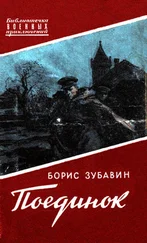
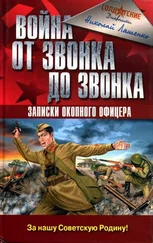
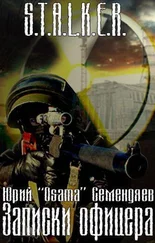
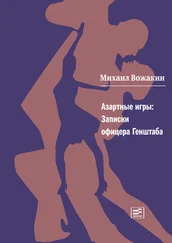
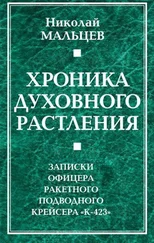
![Давид Маркиш - За мной! [Записки офицера-пропагандиста]](/books/406565/david-markish-za-mnoj-zapiski-oficera-thumb.webp)