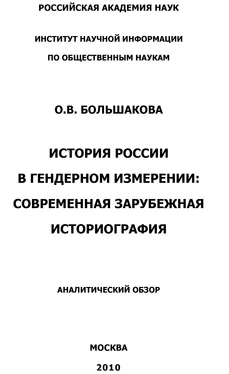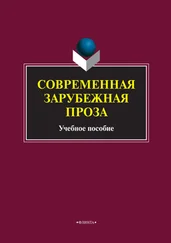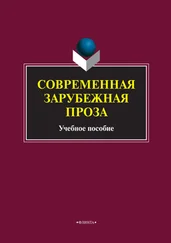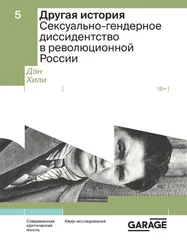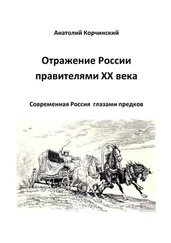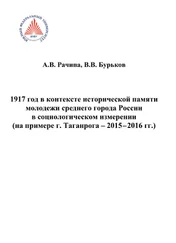Наиболее явственно различия между историей женщин и гендерной историей (т.е. фактически между социальной и культурной историей) проступают в периодизации, когда дело касается советского времени. Казалось бы, советская эпоха вполне отвечает всем критериям периода «трансформации», когда происходил процесс освобождения женщины и формирования ее как независимого социального субъекта. Тем не менее дарованные женщинам в 1917 г. широкие права заставляют социальных историков проводить четкую границу между дореволюционной и советской эпохами и считать революцию «разрывом», переломным моментом в периоде трансформации. Ключевую роль здесь играет избранная точка отсчета – социальный опыт женщин. Немалую роль играют и убеждение, что в основе этого опыта лежат юридически закрепленные права, и привычка опираться в своей работе в первую очередь на правовые акты и только затем «поверять» их практикой. Исследования, уделяющие большее внимание повседневной жизни и микроистории, обнаруживают в советской эпохе многие явления, корнями уходящие в дореволюционное время, а правовые нормы выступают в них чаще в качестве механизмов, закрепляющих уже существующую практику. И все же в основе выделения отдельного советского периода в гендерной истории чаще всего лежит убеждение в уникальности «социалистического эксперимента».
Гендер в традиционном обществе
Первый период гендерной истории России, характеризующийся безраздельным господством традиционного общества, по своей протяженности намного превосходит период «трансформации». Более того, для низших слоев он продолжался гораздо дольше, чем для элиты, а патриархальные структуры семьи, как принято считать, оставались фактически незыблемыми вплоть до падения империи.
Изучение гендерной истории допетровской Руси представлено в западной русистике крайне небольшим количеством работ, в основном посвященных женщинам XVI–XVII вв. Среди ведущих исследователей следует назвать Ив Левин, Нэнси Шилдс Коллманн, Валери Кивелсон, Изольду Тире. Главную трудность здесь составляет скудость источниковой базы. Наряду с традиционными для социальной истории источниками – судебными и дворцовыми документами, частноправовыми актами, летописями, новгородскими берестяными грамотами – привлекаются произведения духовной и светской литературы, фольклор, изобразительные материалы, данные этнографов. Все это позволило реконструировать патриархальную систему ценностей допетровской Руси, которая, как считают историки, мало отличалась от западноевропейской. В ее основе лежало понятие о неукоснительном подчинении женщины мужчине, поскольку по самой своей природе она является существом слабым физически и морально. Мужчины должны управлять женщинами для их же блага и для блага общества, а женщины – подчиняться мужчинам, следовать их советам и служить своей семье. Однако, как и в большинстве патриархальных обществ, власть мужчин не была абсолютной. Женщины высокого социального положения могли командовать мужчинами нижестоящими, старые женщины – младшими по возрасту мужчинами, власть свекровей над невестками была поистине безграничной, а вдовы часто были по-настоящему независимыми (42, с. 3).
Характеризуя патриархальную структуру допетровской Руси, западные историки пришли к выводу о том, что она давала женщине и определенные преимущества, в частности хорошо обеспечивала ее защиту и, кроме того, предоставляла ей возможность, пусть ограниченную, принимать достаточно активное участие в жизни общества. В современной историографии явно заметен отход от прежних критических интерпретаций, подчеркивавших угнетенное положение женщины. Еще одной важной чертой сегодняшней ситуации в изучении гендерной истории России следует назвать отказ от прежних представлений о российской «исключительности» с акцентом на отсталости страны и ее отличиях от Европы. Надо сказать, эта черта характерна в целом для всей англоязычной русистики, которая все чаще помещает историю России в общеевропейский контекст.
Плодотворность такого подхода демонстрирует статья Фрэнсиса Батлера (30), в которой сюжет Повести временных лет о мести княгини Ольги древлянам исследуется с точки зрения соответствия «гендерному коду» того времени. Автор реконструирует нормы древнего восточнославянского общества, опираясь в условиях крайней скудости источников на материалы скандинавского, раннегерманского и англосаксонского эпосов. Он полагает такое сравнение вполне правомерным, поскольку нормы гендерного поведения изменялись крайне медленно.
Читать дальше