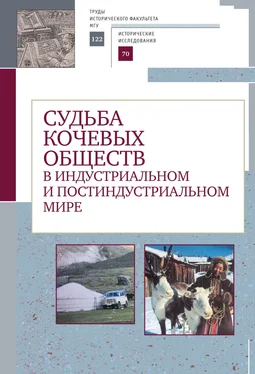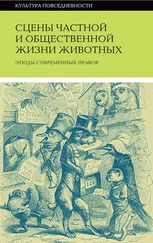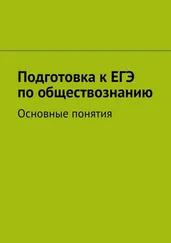Поэтому, возможно, фермерское хозяйство для успешного владельца скота как индивида сейчас, действительно, может выглядеть как оптимальная форма организации производства (хотя все же не безальтернативная). Но большие сомнения вызывает вопрос о том, сможет ли система фермерства сохранить номадизм в аридных зонах как специфический особый уклад и образ жизни. Нетрудно представить, что менее успешные хозяева (которых все же будет большинство при реализации данного пути развития) предпочтут участи батраков переселение и поиск занятий совсем иного рода, например, в промышленности. Ведь общество эпохи постмодерна в таком плане предоставляет для человека куда больший выбор, нежели он был у кочевника-бедняка на заре встраивания кочевых народов в индустриальный мир. Тем более, что нынешний кочевник благодаря развитию еще при социализме образования и культуры информирован о мире и возможностях трудоустройства несравненно лучше, чем его предки. Конечно, государственная помощь в перепрофилировании занятости «лишних» для фермерского хозяйства людей, несомненно, только поспособствует этим процессам. Но в итоге ведь всё вполне может обернуться только запустением областей, где проживало кочевое население. Тогда фермерам, здесь оставшимся, возможно, придется переходить к вариантам найма работников «вахтовым методом». Но это уже из области предположений.
Относительно возможностей перепрофилирования занятий населения на не связанные с подвижным скотоводством виды труда необходимо также заметить, что такая вероятность существует больше гипотетически, даже если государства, куда относятся районы расселения кочевников, найдут для этого средства и создадут нужную систему подготовки. Подготовить работников, не связанных с животноводческим хозяйством – это ещё не решение проблемы их иной занятости на местах обитания. То есть если эти люди, получив подготовку, уедут из родных мест, они, конечно, работу смогут найти. Но какие современные специальности могли бы им позволить остаться, это очень большой и трудно решаемый вопрос, даже с учетом того, что современная система коммуникаций допускает территориальную разобщенность работников. Все имевшиеся опыты подключения населения аридных районов или субарктических широт к современным профессиям в промышленности или сфере услуг всегда упирались в одну проблему: если большая доля жителей этих мест будет занята такими видами труда, то кто тогда будет заниматься их жизнеобеспечением? Ведь легко и просто решаемые в других условиях такие вопросы за счет ввоза, например, продовольствия, здесь из-за удаленности и отсутствия налаженных транспортных коммуникаций просто моментально делают любой род занятий (кроме традиционных видов труда) абсолютно убыточным. Особенно это касается населения севера, где любая община должна концентрировать именно в своей собственной среде способы своего обеспечения пищей, то есть оставаться максимально самодостаточной единицей. Непонимание такого элементарного «закона жизни» севера, вылившееся в свое время в непродуманную политику ломки микроареального расселения и природопользования путем укрупнения поселений, хотя и делалось это как будто в благих целях (лучшие возможности для образования, медицинской помощи, стационарное жилище) привело в итоге к противоположным результатам: к нарушению нормального воспроизводства северных этносов, когда сконцентрированные в крупных поселках вчерашние таежники и тундровики превращались в неприкаянных живущих случайными заработками люмпенов, проникнутых иждивенческими настроениями из-за положенных представителям малочисленных народов льгот. В более доступных в транспортном отношении аридных районах подобных проблем хотя и меньше, но и их жители полностью от них не избавлены.
Кроме аспектов экономико-хозяйственных, для оценки перспектив кочевых обществ в мире постмодерна не менее важна группа вопросов, касающихся социальной организации. Номадизм как особый уклад всегда, как выше уже отмечено, базировался на разных, но довольно многочисленных, специфических формах коллективности. Остроту данной проблеме придает сознательная линия идеологов современного глобализма на расшатывание оснований традиции и сообщества, хотя та или иная традиция и принадлежность к сообществу всегда были (и остаются) обязательным условием бытия и воспроизводства любого социума. Освобождение от традиции и сообщества видится теоретикам глобализма неким высочайшим достижением современной цивилизации, верхом индивидуальной свободы личности, о чем откровенно сказал американский социолог директор Института по изучению экономической культуры при Бостонском университете П. Бергер. Сравнивая между собой разные сферы культурной глобализации, он отметил: «Если и есть аспект, который присутствует во всех этих сферах, то это индивидуализация: все сферы зарождающейся глобальной культуры способствуют независимости индивида от традиции и сообщества» [5].
Читать дальше