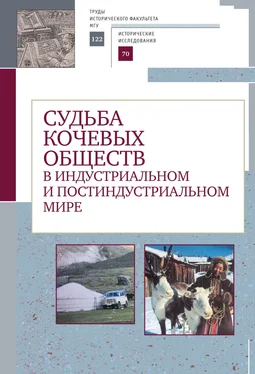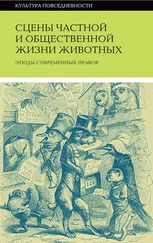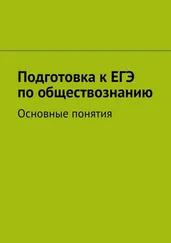В условиях развития товарного производства до революции 1917 г., когда уже разбогатевшие скотоводы были ориентированы на рынок и получение прибыли, сохранение традиционной обычно-правовой практики делало для них крайне невыгодными отношения сауна с близкой родней. Постепенно в ряду зажиточных хозяйств практика обычного найма пастухов стала все больше укореняться. Причем это происходило в типологически схожих формах и у степных скотоводов, и в областях преобладания крупностадного оленеводства на сибирском севере. То есть полномасштабное развитие подобных тенденций вполне могло бы обернуться деструкцией общинных коллективистских порядков, с другой же стороны, такой путь подключения к экономике модерна, по-видимому, неизбежно мог привести к сложностям в воспроизводстве кочевых обществ как этнокультурных феноменов. Альтернативой их деэтнизации, вероятно, могло бы быть только их сохранение как неких заповедников традиционализма.
Период строительства социализма по отношению к обществам кочевых скотоводов с точки зрения социально-организационной базировался на по крайней мере двух принципиальных факторах: отход от частной собственности на основную массу скота, его обобществление государственными или кооперативными объединениями, с закреплением за ними пользования пастбищами, и развитие и поддержание принципов коллективности в производстве и распределении. Коллективность общинного типа, разумеется, в политико-идеологическом понимании должна была смениться коллективизмом трудового народа, сознательных и совместно с товарищами по классу идущих к новой жизни социалистических тружеников. Но это в теории. На практике же целенаправленная политика деструкции родственно-общинных отношений и структур властями не проводилась. По-видимому, интуитивно власти понимали, что населением такая практика была бы отторгнута. Напротив, коллективистские начала и приверженность им населения, особенно в первые десятилетия строительства социализма, скорее выглядели неким подспорьем в организации хозяйственной жизни. Нередко связи родственно-соседского характера использовались или даже лежали в основе комплектования бригад, подразделений, и т. д. Хотя, с другой стороны, со временем пережитки родо-племенного сознания оборачивались и очевидным недостатком кадровой политики, когда социальная динамика зависела не столько от деловых качеств работника, сколько от его родственных отношений с начальством. Время от времени на местах приходилось принимать соответствующие постановления и вести с этим борьбу, хотя бы номинально. Таким образом, можно констатировать, что родо-племенная структура и соседско-родственные связи с их функциональной важностью в бытовой сфере, в структуре деятельности кочевника при социализме в целом не теряли значения, хотя, разумеется, их традиционное место в образе жизни в какой-то степени стало менее существенным, будучи отчасти потеснено некоторыми новыми вертикальными и горизонтальными взаимосвязями в социалистическом социуме.
Ныне же очередной, постсоциалистический, период ломки сложившихся экономических и социальных отношений на первый взгляд стал временем реставрации рыночной системы, и, если вопрос только в этом, по имеющимся материалам относительно того, как происходило приспособление традиционного хозяйства к рыночной экономике ранее, можно было бы предполагать, что ожидает кочевников в перспективе. Но проблема еще и в том, что индустриальное общество с ориентацией производства и потребления главным образом на внутринациональные государственные связи (особенно в агро-промышленной сфере) для мира в целом этап уже пройденный. Постиндустриальное общество периода глобализации в функционировании системы производства и потребления предлагает миру в чем-то существенно отличную систему связей, где над локальным, региональным и государственным интересом начинают превалировать не внутринациональные воспроизводственные структуры, а глобальные сетевые связи и интересы.
В таком современном развороте ориентации производства на рынок (если под рынком иметь в виду не местные базары, а серьезную товарную специализацию как одно из важнейших условий хозяйственной жизни и быта) уже заложено очевидное противоречие. Когда глобальная экономика начинает диктовать развитие и расширение производства в самых востребованных рынком продуктах скотоводства, последствия прогресса производства не всегда бывают предсказуемыми и приемлемыми для норм воспроизводства хозяйства номадов. Такое уже произошло, в частности, в связи со спросом на ангорский пух, что повлияло на рост в Монголии поголовья коз и, соответственно, на повышение благосостояния владельцев крупных стад. А следствием стала деградация пастбищ, часть которых надолго просто выпала из оборота. Надо иметь в виду, что как в аридных, так и в субарктических зонах естественные природные кормовые ресурсы для животноводства в принципе очень хрупки и уязвимы, и перевыпас для пастбищ сопряжен с риском их временной утери. Восстанавливаются они долго и с трудом. Ведь практика пользования пастбищами с сохранением основ воспроизводства кормовой базы для скота формировалась все же в условиях ориентации хозяйства номадов на натуральное самообеспечение. Но глобальному рынку – такова его природа – эти проблемы не интересны. А вскоре еще и рыночная конъюнктура изменилась, мода на ангорскую шерсть прошла. Производитель же потерпел урон как из-за падения спроса, так и из-за проблемы переориентации хозяйства в условиях истощения пастбищ.
Читать дальше