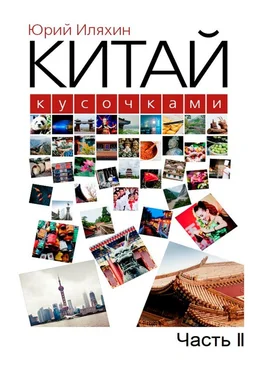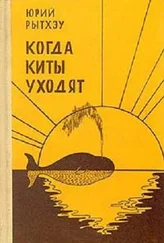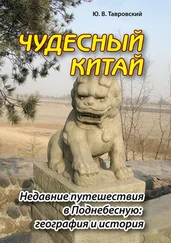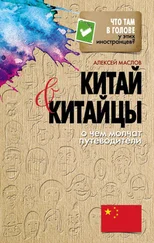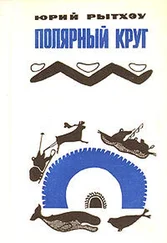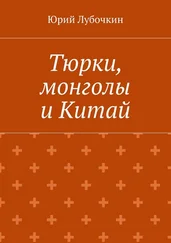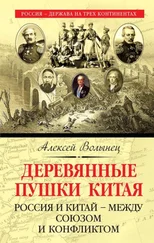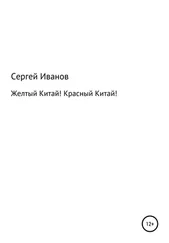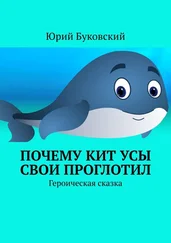С прудика, защищенного камнями, доносится гоготанье гусей – хозяин поместья, Ван Си-чжи, их очень любил, нынешние владельцы сохраняют традицию. Почему каллиграфу нравились эти птицы? Романтичные исследователи утверждают, что он изучал изгибы их длинных шей, плавные повороты головы, отрывистые удары клювом, когда гуси хватали то ли рыбешку, то ли водоросли, и пытался скопировать эти движения при написании иероглифов: кисть должна была так же стремительно падать к бумаге, скользить, едва касаться ее, создавая тонкие, сходящие на нет линии, или же плотно бить, прижиматься, отрываться от поверхности, порождая мощные, взрывающиеся чернотой сгустки…
А вот и многократно воспетый поэтами и запечатленный художниками извилистый ручей в бамбуковой роще, он петляет, кружит, забегает сам себе за спину и возвращается обратно… Место поклонения художников и литераторов. Недалеко от него за ивами прячется лотосовый пруд, позади которого каменная стена, отделяющая поместье от быстрой речки и недальних зеленых гор. Тишина, только стрекочут цикады да разрезают чистый воздух стрижи.
Есть много легенд о мастерстве Ван Си-чжи. Как-то один из семи его сыновей, Ван Сянь - чжи / Wang Xianzhi , который приобрел имя как каллиграф и которому слава вскружила голову, показал отцу очередное творение. Похвалиться. Тот ничего не сказал, лишь поправил один иероглиф. Даже не иероглиф – черточку. Даже не черточку, а каплевидную точку, ту, что отличает иероглиф большой, да / da , от иероглифа великий, тай / tai (вот оно – мизерное отличие большого от великого) … да что объяснять, вы сами прекрасно знаете. Всего лишь мимолетное касание кисти. Ван Сянь-чжи отнес свиток матери. Та взглянула и сказала: «Мой сын начертал так много знаков, но мастерски здесь исполнена только точка в иероглифе „великий“…» Сын, конечно, устыдился и исправился в тяжком труде, изведя немереное количество туши. В память об этом в усадьбе установлен камень с иероглифом «великий».
Его отец, Ван Си-чжи навеки вошел в историю, когда, охваченный вдохновением, написал однажды маленькое сочинение – всего три сотни иероглифов. Произошло это так: в жаркий день в конце апреля 353 года он пригласил друзей на «праздник очищения» – установленный ритуал, когда полагалось купаться в реках, ручьях, озерах и прудах, дабы смыть беды и горести и отвести напасти. Это был третий день третьего месяца по лунному календарю, день рождения Желтого императора. Подчеркивая важность происшедшего в тот день события, когда важна каждая деталька, исследователи отмечают: всего званы были 41 человек, среди них ученые, поэты, художники, каллиграфы, родственники и друзья.
Они уселись на берегу извилистого ручья в тени бамбуков, на траве и на камнях, пили вино, читали стихи. Забавляясь, пускали по течению чаши с вином, конечно же, с ароматным и мягким шаосинским, утверждают местные патриоты. Тот человек, напротив которого чаша останавливалась, то ли приткнувшись к берегу, то ли задержанная камнем или придонной травой, должен был сочинить и прочитать стихотворение. Если не получалось, следовал штраф – три чарки вина. В итоге на свет появились стихи, в количестве 37-ми, сочиненные 25-ю авторами. Ван Си-чжи собрал их воедино и начертал сочинение – «Предисловие к сборнику стихов из Орхидеевой беседки», « Ланьтин цзи - сюй» / « Lanting jixu» .
Оно и стало священным шедевром. По размеру небольшое (примерно 25 см высотой и 70 см длиной), предисловие состояло из 28-ми вертикальных строк и 324-х иероглифов. Изящным слогом оно повествует о том, что вот в тени гор у ручья собрались друзья, и стар, и млад, всем радостно в «начале конца весны» на «празднике очищения» здесь встретиться, сочинять стихи и наслаждаться жизнью, которая мимолетна, пролетает мгновенно, ведь мы уйдем, как многие поколения до нас, и останутся только эти стихотворения…
Спустя столетия поэт и философ Сунской эпохи Ван Ань-ши писал:
…Осадок в чане винном остается —
Молва не лучшее хранит от века.
Любые краски отразить бессильны
Живой духовный образ человека.
Не выразят короткие записки
Мужей высокомудрых упованья.
Однако лишь бумага сохраняет
Мирскую пыль – следы существованья…
Очевидно, Ван Си-чжи творил на одном дыхании, подчиняясь чувству, ошибаясь (в тексте есть замазанные и исправленные знаки), буквально «на скорую руку»: «Предисловие…» выведено кистью в «ходовом», «бегущем» стиле. Но – с такой энергией, так выразительно и своеобразно, так талантливо, что никто не смог впоследствии даже приблизиться к нему. Не говоря даже о других – сам автор не раз безуспешно пытался повторить шедевр.
Читать дальше