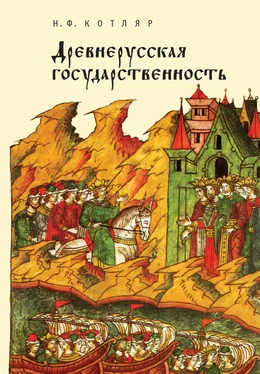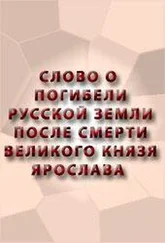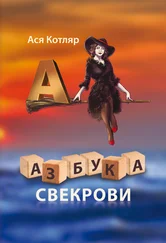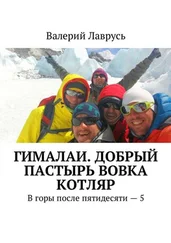Учёные неоднократно рассматривали вопрос относительно исторической реальности картины расселения славян во введении к «Повести временных лет», времени, когда оно происходило, и стремились найти ей соответствия в иноземных источниках. Например, А. И. Рогов и Б. Н. Флоря, опираясь на свидетельства Баварского географа первой половины IX в., пришли к выводу, что сведения «Повести», вне сомнения, отражают историческую действительность того времени, а в отдельных случаях – и более раннего. Они считают, что племенные союзы существовали в VII–VIII вв., а в некоторых случаях, возможно, и раньше 23 23 Рогов А. И., Флоря Б. Н. Формирование самосознания древнерусской народности // Развитие этнического самосознания славянских народов в эпоху раннего средневековья. М., 1982. С. 98, 100.
. По этому поводу Л. В. Черепнин осторожно заметил, что к VIII–IX вв. перечисленные в летописи союзы племён уже сложились 24 24 Черепнин Л. В. Указ. соч. С. 146.
. В исторической литературе неоднократно отмечалось, что введение к «Повести» застаёт восточнославянский мир по меньшей мере с VI – начала VII в. Имеются в виду рассказы о «примучивании» дулебов аварами, основании Киева и некоторые другие.
Учёные уже давно обратили внимание на то, что в повествовании Нестора о расселении восточных славян, возникновении у них княжеской власти, обычаях не существует обозначений для этнокультурных и политических общностей разных социальных уровней. Для удобства дифференциации этих общностей исследователи пользуются понятиями «племя» и «союз племён». Однако сам летописец во всех случаях употребляет термин «род», как при изложении ранней (VI–VIII вв.), так и позднейшей (IX–X вв.) истории восточного славянства. У Нестора и составителя Новгородской первой летописи младшего извода этот термин обозначает и род в прямом понимании слова, и племя, и союз племён, и племенное княжение, и даже крупные этнокультурные общности, «народы» («род словенский», «род ляхов», «род варяжский») 25 25 См., напр.: Рогов А. И., Флоря Б. Н. Указ. соч. С. 98.
.
С особенно большими трудностями связано использование археологических источников в штудировании восточнославянского общества VI–IX вв. В наши дни учёные-археологи в общем сходятся во мнении, что достоверные славянские древности датируются временем не раньше середины I тысячелетия н. э. Им предшествуют во времени памятники эпохи Великого переселения народов, часть которых имеет непосредственное отношение к славянскому этногенезу. Последние представляют собой комплексы материальной культуры этнически смешанного населения, поэтому выявить преемственность славянских древностей VI–VII вв. от более ранних оказывается очень трудным делом 26 26 Седов В. В. Происхождение и ранняя история славян. М., 1979. С. 92–100.
. Прибавлю к этому, что этнос и археологическая культура не являются тождественными понятиями 27 27 Так, Черняховская археологическая культура на территории Украины и соседних стран, отличаясь общностью материальных памятников, была полиэтнической, объединяя, в частности, готский и славянский этносы.
, что материальные памятники во многих случаях этнически не окрашены, что, наконец, они чаще всего бессильны в вопросах изучения социальной структуры общества. Понятно поэтому, с какими трудностями встречается учёный, обратившийся к исследованию истории восточных славян времён группирования больших и малых племён в большие и малые союзы.
3. Предпосылки восточнославянской государственности
Главным, а во многих случаях и единственным источником исследования процессов образования восточнославянского государства до сих пор остаётся летопись. Знаменитое этногеографическое введение к «Повести временных лет», не раз цитировавшееся и толковавшееся исследователями, начинает свой рассказ о славянах со времени их расселения на пространствах Европы. Кратко сказав о южных и западных славянах, Нестор далее сосредоточивает внимание на восточных: «Тако же и ти словене пришедше и седоша по Днепру и нарекошася поляне, а друзии древляне, зане седоша в лесех; а друзии седоша межю Припетью и Двиною и нарекошася дреговичи…» и т. д. 28 28 Повесть временных лет. С. 11 (здесь и далее цитируются ч. 1 издания 1950 г.).
Современные историки согласны в том, что поляне, древляне и другие общности Нестора представляли собой союзы восточнославянских племён. Известный польский славист X. Ловмяньский определял модель позднего племенного строя в славянском мире таким образом: все без исключения славяне имели двухступенчатую территориальную структуру, нижнюю ступень которой можно назвать малым племенем, а высшую – большим. У восточных славян, по его мнению, малыми племенами были полочане, жившие на ограниченной территории в бассейне небольшой речки Полота, и, возможно, радимичские пищанцы. Вероятно, малые племена входили в состав больших, таких, как поляне или северяне 29 29 Ловмяньский X. Основные черты родоплеменного и раннефеодального строя славян // Становление раннефеодальных славянских государств. Киев, 1972. С. 97.
. Таким образом, под малыми и большими племенами X. Ловмяньский понимал союзы племён. Поэтому предложенная им структура славянского общества на самом деле не двух-, а трёхступенчатая: племя – малый союз – большой союз племён.
Читать дальше