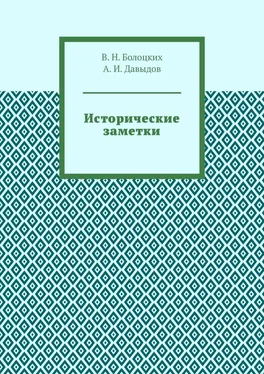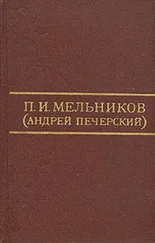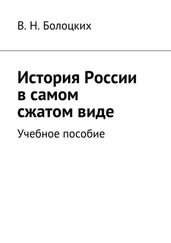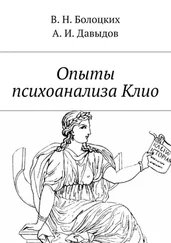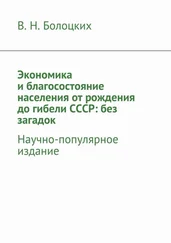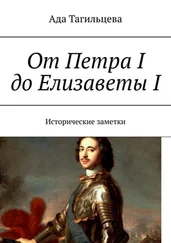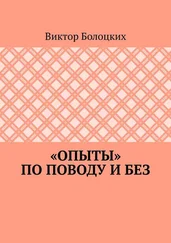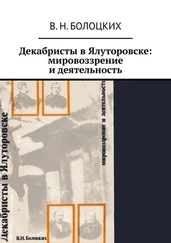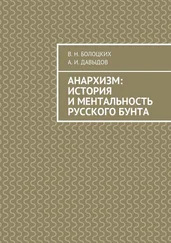В Европе негативный имидж России, пишет Миронов, сложился со второй половины XVI в., а в самой России в публицистике и либеральной историографии в конце XIX – начале XX в. «в эпоху борьбы либерально-демократической общественности с авторитарной властью, с благородной целью – утвердить в стране гражданское общество и правовое государство. В советской историографии образ бедной, отсталой, агрессивной и угнетающей себя и других России приобрел новые краски и вошел в учебники истории, а через них – в массовое сознание».
Миронов ставит своей целью опровержение этих стереотипов. По его мнению, именно благосостояние является самым надёжным критерием оценки эффективности экономики, государства и проводимых им реформ. «Если уровень жизни систематически повышается, значит, экономика и государство работают удовлетворительно, реформы приносят положительные плоды, и наоборот».
Источником для опровержения стереотипов явились антропометрические данные (прежде всего о росте, или длине тела, человека). Миронов утверждает, что «когда благосостояние повышается, средний рост населения увеличивается, а когда понижается, то и рост уменьшается».
Проделав колоссальную работу по сбору и обработке антропометрической информации Миронов оказался готовым к доказательству своего главного тезиса: « Россия – нормальная европейская страна, в истории которой трагедий, драм и противоречий – нисколько не больше, а достижений и успехов – нисколько не меньше, чем в истории любого другого европейского государства» 11 11 Там же. С. 15—17.
.
Нисколько не сомневаясь «нормальности» России, сразу выскажу несколько замечаний. В дореволюционной и советской историографии много работ об экономическом и социальном развитии России, в которых выражены самые различные точки зрения.
Во-вторых, сами по себе рост благосостояния или пауперизации населения не является единственным и даже основным критерием «эффективности экономики, государства и проводимых им реформ». И потому что нет единых и монолитных дворянства, буржуазии, крестьянства и рабочего класса – внутри себя они делятся на многочисленные группы, различающиеся очень сильно по разным параметрам, в том числе по уровню благосостояния, своим жизненным потребностям и стремлениям. И потому что источники благосостояния различны даже у представителей одного сословия и эти различия могут свидетельствовать о кризисе экономической основы этого сословия. И потому что не только и не столько государство определяет характер развития любой страны, на которое на самом деле оказывают воздействие множество факторов: природно-климатических, географических, геополитических, демографических, этнических и культурных 12 12 См. подробнее: Болоцких В. Н. Опыт 6. Обаяние государства-ТВОРЦА: Частная собственность, государство и общество в России. Точка зрения предпринимателя // Болоцких В. Н., Давыдов А. И. Опыты психоанализа Клио. Б. м. Издательские решения. По лицензии Ridero. 2017.
.
Не случайно, утверждения об однозначной связи роста человека и его благосостояния, а также о повышении благосостояния в среднем как критерии эффективности имперского государства вызвали наибольшие возражения у оппонентов Миронова.
Основной посыл историографического раздела монографии Миронова: уже в дореволюционный период сложилась парадигма кризиса и пауперизации . Творцом её явилась «либерально-радикальная интеллигенция», стремившаяся к власти. При этом Миронов не раскрывает содержание понятия «либерально-радикальная интеллигенция». В России второй половины XIX – начала XX в. среди образованной части общества было множество идейных течений самой разной направленности, сторонников реформ и революций, которые внутри себя делились на огромное количество противостоящих друг другу воззрений. И следовало бы доказать правомерность их объединения в единое и нераздельное понятие.
Согласно парадигме кризиса и пауперизации, «причиной общего, или системного, кризиса России и обнищания её населения в первой половине XIX в. являлось крепостное право, а в пореформенное время – половинчатость освободительных реформ 1860-1870-х гг.» (общество не получило конституцию). Постоянное снижение жизненного уровня крестьян и рабочих рассматривалось как главное доказательство кризиса и несостоятельности имперского режима. Советская историография унаследовала эту парадигму и обобщила её до исторической закономерности о непрерывном обострении нужды и бедствий не только крестьян, но и рабочих в антагонистических общественно-экономических формациях.
Читать дальше