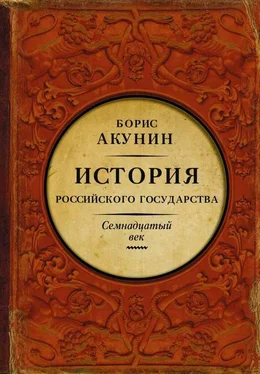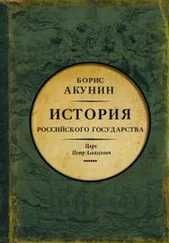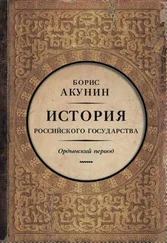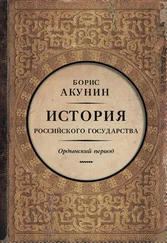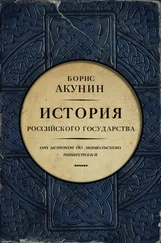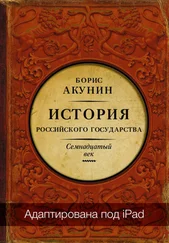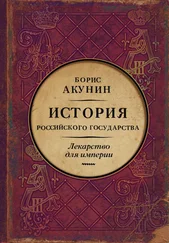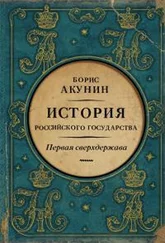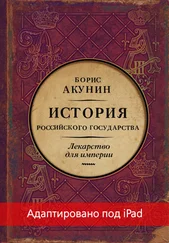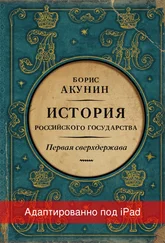Свергнутой правительнице обвинений не предъявляли, никаких специальных манифестов издано не было, а просто царь Петр обратился к царю Ивану с официальным письмом, в котором говорилось: «Срамно, государь, при нашем совершенном возрасте тому зазорному лицу государством владеть мимо нас» – и Софью без лишнего шума отправили в ближний Новодевичий монастырь. Андрей Матвеев (сын Артамона Сергеевича) пишет, что царевна покидала дворец «во многом плаче». После семи лет ослепительного взлета ей предстояло закончить жизнь так же, как множеству «обычных» царевен – в монастырском уединении.
Вот так, беспрецедентным женским правлением, провозвестником грядущего «женского века» российской истории, закончился недолгий век «третьего» государства – самодержавной монархии со слабыми самодержцами.
Заключение. Перед выбором пути
Многие историки считают русский семнадцатый век каким-то потерянным временем, когда страна топталась на месте, все больше отставая от Европы, но в истории российского государства этот отрезок занимает совершенно особое место. Можно смотреть на него и вот как: это была попытка частичного отхода от «ордынской» модели, заимствованной Иваном III и затем доведенной его преемниками до абсолюта.
Напомню, что государство «ордынского» типа стояло на четырех главных опорах.
1. Предельная централизация и концентрация власти; все мало-мальски важные решения принимались одной инстанцией – самим государем.
2. Все жители, от простолюдина до аристократа, были на положении «крепостных» у государства, которое считалось высшей ценностью: не государство существовало ради населения, а население ради государства.
3. Фигура верховного правителя была священна, любое покушение на ее авторитет считалось тяжким преступлением.
4. Воля государя стояла выше любых законов, обязательных для подданных, но не для высшей власти.
Политический кризис начала XVII века обрушил на эту жесткую конструкцию испытание, которого она не выдержала. Оказалось, что удерживать государство на одном-единственном «болте» слишком рискованно: если он ломается, всё разваливается.
Поэтому модель подверглась некоторой коррекции. Навершие пирамиды было укреплено подпорками, что позволило государству функционировать и при слабых государях, но остальные черты «ордынскости» сохранились: и тотальная централизация власти, и тотальная несвобода жителей, и тотальное верховенство приказа над законом.
Обновленное «мягкое» самодержавие помогло новой династии, как нарочно дававшей весьма слабых монархов, утвердиться и удержаться, однако эта странная гибридная структура была не в состоянии решить многие другие насущные проблемы страны.
С одной стороны, система оставалась слишком ригидной и мешала живому развитию страны, замедляя всякое периферийное и самопроизвольное развитие. Движение происходило только там, куда не дотягивалось государство – например, в Сибири.
С другой стороны, «несамодержавное самодержавие» не могло в полной мере воспользоваться и мобилизационно-принудительными механизмами, которыми отлично владеет империя классического чингисхановского типа.
Говоря упрощенно, существует два метода, с помощью которых можно побудить население к исполнению масштабных задач: или через материальную заинтересованность, или через мобилизацию, которая обеспечивается энтузиазмом либо страхом (как правило, их комбинацией). «Третье» государство не умело ни воодушевлять, ни запугивать. При кровавом деспоте Иване IV народ жил еще тяжелее и намного страшнее, но не бывало ни бунтов, ни даже ропота; при гуманном Алексее Михайловиче страну постоянно лихорадило. Через похожую эволюцию в XX веке пройдет «пятое» российское государство Советский Союз, в котором сталинская мобилизация через восторг и страх сменится демобилизацией брежневского «застоя».
Потрясения 1680-х годов показали, что «самодержавие без самодержца» все-таки не работает. Нужно было или снова «закручивать гайки», возвращаясь к «ордынскости», или менять фундаментальные параметры всей системы.
У страны в целом проблем было еще больше, чем у царской власти.
По выражению Ключевского, русские «очутились в неловком положении людей, отставших от собственных потребностей». Историк пишет: «Они поназывали несколько тысяч иноземцев, офицеров, солдат и мастеров, с их помощью кое-как поставили значительную часть своей рати на регулярную ногу и то плохую, без надлежащих приспособлений, и построили несколько фабрик и оружейных заводов, а с помощью этой подправленной рати и этих заводов после больших хлопот и усилий с трудом вернули две потерянные области, Смоленскую и Северскую, и едва удержали в своих руках половину добровольно отдавшейся им Малороссии» (добавлю – удержали исключительно благодаря кризису Речи Посполитой).
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу