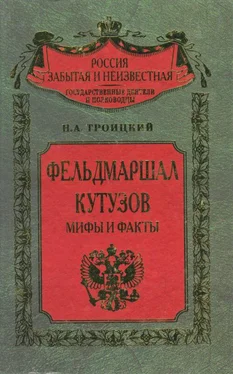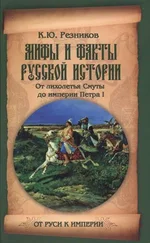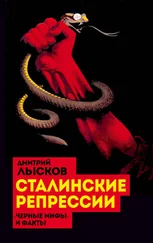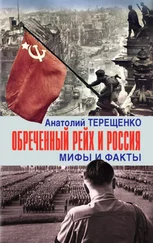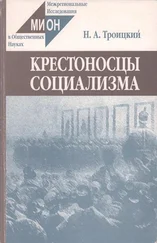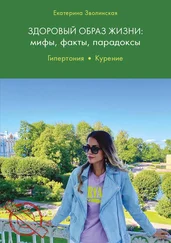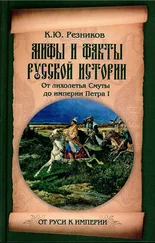Не все генералы и офицеры русской армии радовались в те декабрьские дни 1812 г. фейерверку царских наград и выдвижений. Слышались и критические голоса. «Раздают много наград, но лишь некоторые даются не случайно, — писал 13 декабря из Вильно генерал-лейтенант Н.Н. Раевский жене Софье Алексеевне. — <���…> Кутузов, князь Смоленский, грубо солгал о наших последних делах. Он приписал их себе и получил Георгиевскую ленту» [645] 1812–1814. Реляции… С. 236. «Наши последние дела» — это бои под Красным 4–6 ноября 1812 г.
. О Кутузове еще более резко высказался флигель-адъютант полковник А.А. Закревский (будущий граф, генерал от инфантерии, московский генерал- губернатор и министр внутренних дел): «Надели на Старую Камбалу Георгия 1-го класса. Если спросите, за что, то ответа от меня не дождетесь». «Интриг — пропасть, иному переложили награды, а другому не домерили», — сетовал генерал от инфантерии А.М. Римский-Корсаков в письме к министру внутренних дел академику О.П. Козодавлеву, а лейб-гвардии полковник С.Н. Марин (известный в то время поэт-сатирик) уточнил ту же мысль: «За одного порядочного производятся пять дрянных, чему все свидетели». Впрочем, одно для всех было тогда неоспоримо: главную роль в победе над Наполеоном сыграл не светлейший князь Кутузов, не Государь Александр Павлович, величественный в своей решимости не идти ни на какой мир с захватчиками, даже не воины России, а сам Господь Бог, или, как тогда говорили, Русский Бог. «Зрелище погибели войск его невероятно! — читаем о Наполеоне в манифесте Александра I от 31 декабря 1812 г. — Кто мог сие сделать? Да познаем в великом деле сем промысл Божий!» [646] ВУА. Т. 21. С. 256.
На памятной медали в честь 1812 г. царь повелел отчеканить: «Не нам, не нам, а имени Твоему !»
Как бы то ни было, все в русской армии — от последнего солдата до Самодержца Всея Руси — готовились к заграничному походу. Кутузов из Вильно обратился с воззваниями к населению Пруссии и к французским солдатам. Если пруссаки встретили, что называется, на ура клич «присоединиться к российским армиям» для борьбы с Наполеоном, то французы на призыв восстать против «жестокого рабства», в котором держит их «узурпатор Буонапарт», не откликнулись. 21 декабря в приказе по войскам по случаю изгнания врага из России Кутузов так определил их дальнейшую задачу: «Пройдем границы и потщимся довершить поражение неприятеля на собственных полях его».
Александр I, лично убедившись в том, сколь необходимы для победы российских войск отдых и подкрепления, разрешил им отдыхать в Вильно даже не две, как просил Кутузов, а почти четыре недели. Лишь 24 декабря Главная армия под командованием Кутузова и в присутствии Императора выступила из Вильно в заграничный поход и 1 января нового 1813 г. перешла Неман.
В приказе по войскам от 25 декабря 1812 г. Александр I так объяснил цель их похода в чужие страны: «Вы идете доставить себе спокойствие, а им — свободу и независимость». Кутузов, естественно, поддерживал своего Государя, обещая от его имени в специальном воззвании к «народам германским» «возвращение их свободы и независимости». И таково было тогда совершенно искреннее настроение большинства российских солдат и офицеров [647] См.: Бессмертная эпопея. С. 44–45.
. Конечно, после разгрома империи Наполеона выяснится сакраментальная цель всех семи антинаполеоновских коалиций, а именно — возвращение народов Европы из-под наполеоновского диктата под власть прежних, свергнутых революциями династий и установление нового «европейского порядка» под наблюдением Священного союза монархов во главе с русским Императором. Не будем здесь полемизировать, «хорошо» это было или «плохо». Свой взгляд на идеологию этого процесса как непрогрессивного я изложил в ранее вышедшей книге [648] Подробно об этом см.: Троицкий Н.А. Александр I и Наполеон. М., 1994. С. 262–267.
, хотя знал и знаю, что иные историки и в наши дни полагают, что Александр I и Кутузов вели русские войска за рубеж с единственной целью — действительно освободить Европу от наполеоновской тирании.
Если у Кутузова были сомнения в том, как рациональнее для России готовить заграничный поход, надо ли с ним спешить и нужен ли он вообще, то Александр I был настроен более чем решительно. Будучи в Вильно, он признался графине С. Шуазель-Гуффье: «Эта несчастная кампания стоила мне десятка лет жизни». Действительно, за 1812 год он столько пережил, мужественно держась своей линии не идти ни на какие условия мира с Наполеоном, что Н.Г. Чернышевский с полным основанием включал его стойкость в перечень решающих факторов русской победы: «Главнейшими же причинами нашего торжества в 1812 г. должны быть признаваемы твердая решимость Императора Александра Благословенного, патриотизм народа, мужество наших армий и искусство полководцев». Кстати, советские историки цитировали это высказывание Чернышевского, изъяв из него все относящиеся к царю и, как правило, даже не обозначив пропуск отточием [649] См.: Жилин П.А. О войне и военной истории. М., 1984. С. 453; Недаром помнит вся Россия. С. 196; Бородино. 1812. С. 86; Встречи с историей. М., 1987. С. 78.
.
Читать дальше