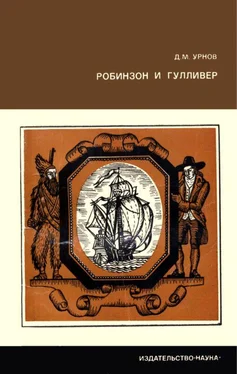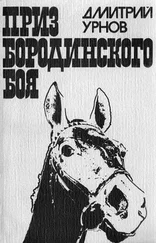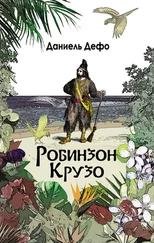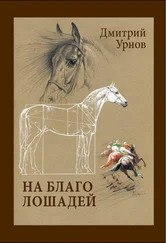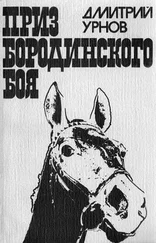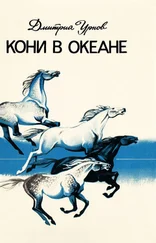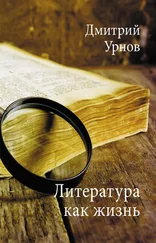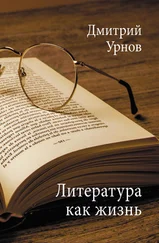Искусственность Конрад чувствовал. Из книги в книгу, от своего собственного лица или через героев, повторял Конрад символическую ситуацию: он в юности смотрит на карту Африки, где еще не прошел Ливингстон и оставались неизведанные края, стучит по карте пальцем и произносит своего рода клятву: «Вырасту и побываю здесь!» И вот ценой неподдельных опасностей, лишений, подлинного мужества прокладывает Джозеф Конрад путь к исполнению мечты, своего намерения. Он достиг цели и все же не исполнил задуманного, ибо не было в этом истории, а только личная дерзость, все та же прихоть — эксперимент, игрушечность. Получилось тускло. «Очарование пропало». Все было Конрадом выстрадано, кажется, всего-навсего затем, чтобы убедиться, что делать этого и не нужно было. Конрад имел, однако, мужество осознать и описать это. «… Жалкий пароходик, которым я командовал, стоял на причале у берега африканской реки… Поодаль, в середине речного потока, на черном островке, приютившемся среди пены взвихренных вод, слабо мерцал маленький огонек, и я благоговейно произнес про себя: „Вот оно, то самое место, о котором хвастался мальчишкой“. Огромная печаль охватила меня. Да, это было то самое место. Но…».
А следом, в конрадовском фарватере, не обращая внимания на силу и значение уничтожающего «но», а может быть, и потому, что иного выхода все равно не было, шло целое поколение писателей Запада 20-х годов XX века — на экспериментальные поиски «момента истины» и «точного слова» с готовностью «выстоять хотя бы в поражении»… Их постигало то же самое разочарование с той разницей, что не у всех в отличие от Джозефа Конрада хватало сил сознаться. Они еще более упорствовали в надуманности и экспериментальности, даже ценой жизни. Видимо, другой выход чреват был кое-чем пострашнее случайной смерти — самоуничтожением.
Простое и магнетически увлекательное перечисление вещей в «Робинзоне» Юрий Олеша заметил как раз в ту пору, когда это было рецептурно прописанным всей литературе приемом с известной дозой «простоты» и «сложности», прямо сказанного и подразумеваемого: «только одна восьмая над водой…» Не замечали, да и сам Хемингуэй, давший формулу, не особенно прояснял результат сильнодействующего повествовательного средства. Между тем он симптоматичен не менее, чем конрадовское «но». Ведь признано все-таки, хотя и между прочим: «Тогда все опущенное будет действовать так же сильно, как если бы художник сказал об этом». Всего-навсего так же сильно, — ради чего же предпринимать лишние повествовательные усилия, если подтекст фактически равен тексту? Отчего не сказать сразу, если недоговоренность скрывает не в самом деле еще нераскрытый смысл, но только манерное умолчание? Ведь Дефо выговаривается из последних сил, не считая, разумеется, умолчаний, вынужденных мотивами политическими или религиозными. Но такой «подтекст» действует временно, минутно в сравнении с вечной силой всей книги. Подтекст умолчаний проясняется мгновенно, а остается между строк лишь то, что высказать не хватило сил.
Подобно тому как Робинзон пилит, строит, соображает самозабвенно настолько, насколько хочется ему остаться в живых, то есть с полной самоотдачей, в ту же меру пишет и Дефо, пробиваясь к живому существованию книги. Обстоятельства требовали от Робинзона такого напряжения, что на сколько-нибудь позерскую «многозначительность» у него не осталось сил. У него действия просты, как просты те жизненные нужды, без которых, однако, нет жизни. Робинзон говорит и действует ничего не подразумевая. Даже Дефо ничего, собственно, не подразумевает. Подтекстом оказывается — не больше и не меньше — сама история, накопившаяся за плечами Робинзона и выразившаяся, насколько у Дефо хватило сил, через уникально точное соединение личного и исторического. Поэтому получается все естественно просто и естественно сложно — содержательно и в результате неистощимо интересно.
«Мы говорили о море и о делах его… И мы говорили о старых кораблях, о происшествиях на море, кораблекрушениях, о сломанных мачтах и о человеке, который доставил целым и невредимым свое судно с временным рулем с реки Плейт в Ливерпуль. Мы говорили о крушениях, об урезанных пайках и о героизме, или, по крайней мере, о том, что газеты называют героизмом на море, о проявлении добродетелей, отличном от героизма первобытных времен. А изредка мы все смолкали и глядели на реку», — это из Конрада, последние возможности такого «говорения», когда предмет, о котором беседуют, все еще говорит сам за себя — корабли, происшествия на море — уже интересно. Но то последние судороги таких перечислений, проделавших долгий вековой путь хотя бы от любого из названий романов Дефо, которые нам известны в двух словах: «…О том, как был он покинут на побережье Мадагаскара, как устроился в этих местах, с описанием страны и ее обитателей… о великих богатствах, которые он там нажил, и как он возвратился в Англию и также о том, как капитан Сингльтон вновь пустился в плавание, с рассказом о многочисленных его приключениях и пиратствах со славным капитаном Эвери и другими». Полный титул «Робинзона» несколько короче, но в свою очередь состоит из многообещающих посулов читателям: «о том, как» и т. п.
Читать дальше