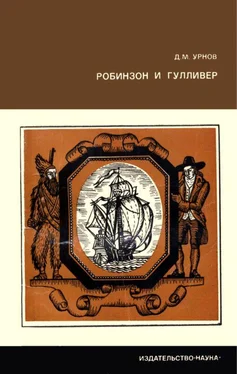Среди всевозможных версий, отрицающих авторство Шекспира и приписывающих его произведения философу Бэкону, государственным мужам Пемброку или Оксфорду и даже королеве Елизавете, есть и такая: Шекспира написал Дефо. В сущности это отражает все те же представления о Дефо: он способен был прикинуться и Шекспиром!
Сознавал ли Дефо, как он пишет? Понимал ли творец «Робинзона» что-нибудь в собственном искусстве? А если получалось это у него действительно «само собой», то можно ли считать такой рассказ «искусством»?
Насколько Дефо понимал себя сам, видно из предисловия к последней части «Робинзона». Намеками, иносказательно, от имени своего героя, но все же вполне внятно говорит он о соединении вымысла и действительности, о символическом и непосредственном значении рассказанной им истории. Он настаивает на слове «история» (то есть событие, имевшее место реально), говорит: «Это и аллегория», — но понятия «художественный вымысел» все-таки избегает… Способ, который помогает Дефо быть правдоподобным, — это документальность, конечно лишь видимая, почти всегда поддельная и тем больше требующая умения, чтобы создать видимость документа.
Оценить место Дефо в повествовательной традиции поможет литературная параллель, проведенная им самим. Была одна книга, перед которой он преклонялся. Это «Дон Кихот», то есть «Удивительные, достославные и т. п. приключения…» «Робинзона» сравнивали с «Дон Кихотом» как выдумку. «Критик хотел оскорбить меня этим, на самом деле он мне только польстил», — говорит Дефо.
Что удалось сделать в своей книге создателю «Дон Кихота», Дефо понимал прекрасно как писатель, тем более что свои намерения Сервантес тоже изложил в предисловии, понятном каждому, кто хоть сколько-нибудь умеет читать между строк.
Сервантес описал себя, автора, как он сидит с пером в руке над завершенной рукописью и не знает, выпускать ее в свет или нет. В чем задержка? Автор не убежден, что ему поверят. Дело в том, что он «сам выдумал» Дон Кихота, между тем как автор должен был только «передавать правдивые истории». Шекспир в конце концов в этом смысле не «написал» ни одной пьесы, он только «переделывал» старые. А Сервантес заявляет, что Дон Кихот — дитя его вымысла и что в то же время это правда.
Если посмотреть первые страницы «Дон Кихота», то станет видно, как в самом деле вчитывался в эту книгу автор «Робинзона Крузо», как он ей следовал, причем иногда даже до такой степени, которую можно счесть подражанием. «Говорили, — пишет, например, Сервантес о своем герое, — что назывался он Кихада или Кесада, но, по наиболее вероятным догадкам, имя его было, кажется, Кихана». «Я был назван Робинзоном Крейцнером, — скажет своим чередом герой Дефо, — но англичане по своей привычке коверкать слова…» — и дальше следует нам уже известная игра с именем Крузо. Это именно «игра», умелая и серьезная литературная игра в правдоподобные детали ради достижения цели, о которой в «Дон Кихоте» сказано: «Впрочем, все это неважно, главное, чтобы рассказ ни на шаг не отдалялся от истины».
Дальше, однако, пути Робинзона и Дон Кихота, а точнее, Сервантеса и Дефо, расходятся. «Ваше сочинение, — говорит в предисловии к „Дон Кихоту“ друг автора, с которым автор, как видно, согласен, — имеет целью разрушить доверие, которым пользуются рыцарские книги». А Дефо пишет в ту пору, когда доверие к «рыцарским книгам» и вообще ко всяким книгам, если только они не поучительны и не достоверны, уже подорвано и это доверие надо, напротив, восстанавливать.
«В этой книге нет и капли вымысла», — скажет Дефо в своем предисловии от «редактора». Он убеждает читателя, что все «правда», и не решается в отличие от Сервантеса заявить, что «правду» эту он создал.
Дефо, разумеется, не первому из английских писателей пришла мысль писать правдиво и просто. «Произведения художественной литературы, которые особенно нравятся нынешнему поколению, — это, как правило, те, что показывают жизнь в ее истинном виде, содержат лишь такие происшествия, что случаются каждый день, отражают только такие страсти и свойства, что известны каждому, кто имеет дело с людьми», — писал Сэмюэль Джонсон в середине XVIII столетия, подводя итоги развития английской прозы за полвека. «Правда» против «вымысла» — это, собственно говоря, основной стимул движения литературы нового времени, реакция на средневековый рыцарский роман и поэзию, полные чудес, фантазии, небывальщины. И это не значит, конечно, что в этих произведениях содержалась «неправда» в бытовом смысле слова. Задачи такой не ставилось — отражать обыденность. Напротив, творец создавал что-то совсем непохожее на «каждый день». Еще в шекспировскую эпоху не очень-то увлекались «правдой». Публика из самых разных слоев общества предпочитала невероятное, чрезмерное, потрясающее, героическое и вместе с тем освященное ореолом предания как нечто, что «было». Пуританская традиция, которая становилась в английской духовной жизни господствующей, все это отвергала. И если учесть, сколько же из предшествующей литературы с этой позиции нужно было отвергнуть, как «вымысел» и «вред», то получалась фактически художественная литература как таковая, которая и обозначается по-английски словом «вымысел» (fiction). Пуритане преследовали театр, не признавали романов. Читали Священное писание, а также литературу деловую, документальную, «достоверную». Но потребность в «художественном» тоже брала свое. Развивался новый роман.
Читать дальше