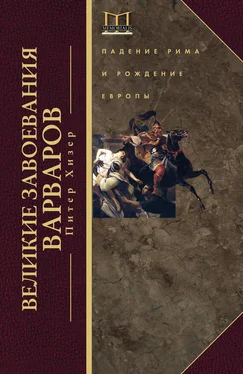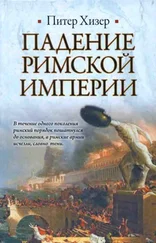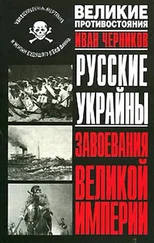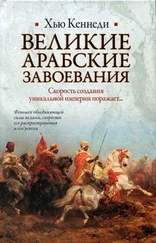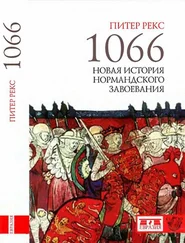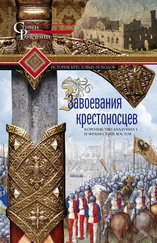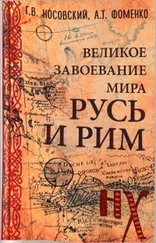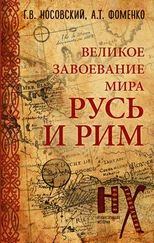Не считая технологического превосходства, которое означало, что даже немногочисленные отряды буров могли вести масштабные сражения, перед нами точно такой же случай, как те, что имели место, если верить источникам, в III веке на побережье Черного моря (и позже в IX веке при скандинавской экспансии на запад). Небольшие группы захватчиков, жаждущих обогащения, реорганизовывались в большие отряды и даже армии, когда стало ясно, что захват власти над землями (и источниками дохода) потребует устранения серьезных политических препятствий. То, как быстро изначально мирный поток мигрантов превратился в собранную, нацеленную на захват армию, – тоже полезное напоминание. Разумный гомо сапиенс прекрасно способен организовываться в вооруженные отряды с целью захватить чужое имущество и иногда поступает так, используя миграцию в качестве транспортного средства. Не менее важен тот факт, что (несмотря на несомненный военный аспект их действий) в миграционные группы буров всегда входили женщины и дети, а не только мужчины – и все имеющиеся у нас данные указывают на то, что данный феномен наблюдался и в III веке при переселении по крайней мере некоторых групп германцев. Случай с бурами не только подтверждает, что такая миграция более чем возможна (в чем – так сильно оказалось общее неприятие гипотезы вторжения – некоторые стали сомневаться), но и придает вес указанной выше причине, стоящей за подобным решением. Если военная мощь захватнического отряда зависит только частично от профессиональных воинов или и вовсе опирается не на них, а на землевладельцев, которые также владеют мечом, тогда те фермеры, которые присоединяются к отрядам, возьмут с собой и свои семьи. Молодые буры с юного возраста обучались верховой езде и стрельбе – как и женщины, которые были отнюдь не беспомощны в бою даже без мужчин, и военные силы мигрантов в конечном итоге одержали победу над матабеле и зулусами. Как мы знаем, у германцев II и III веков имелись дружины, состоящие из профессиональных воинов, но они были немногочисленны, и, поскольку у переселенцев не было такого серьезного преимущества над карпами или сарматами, как огнестрельное оружие, германским племенам, вторгшимся в Северный Понт, было необходимо численное превосходство – в отличие от буров. Следовательно, они склоняли к участию в походах свободных граждан – фермеров, владеющих оружием, которых в германском обществе было явное большинство, и эти люди, разумеется, пускались в путь вместе с семьями.
Для того чтобы обрести хотя бы шанс на успех, предполагаемым лидерам нужно было проводить вербовочные кампании на достаточно приемлемых условиях, чтобы привлечь свободных воинов. К сожалению, описание таковых не дошло до наших дней, однако следующие несколько слов, характеризующие готского предводителя Теодориха, готовящегося к своему первому крупному военному походу приблизительно в 470 году н. э., довольно внятно передают суть этого процесса: «Теодорих уже приблизился к годам юности, завершив отрочество; ему исполнилось восемнадцать лет. Пригласив некоторых из сателлитов отца и приняв к себе желающих из народа и клиентов, что составило почти шесть тысяч мужей, [он двинулся с ними в поход]» [161].
Этот поход затевался с намерением вернуться домой, поэтому причин брать с собой семьи у воинов не было, однако он показывает, что даже в V веке для того, чтобы собрать серьезное войско, необходимо было, помимо регулярных отрядов, обратиться к более широкому слою германского общества. Однако для того, чтобы полностью постичь миграционные феномены II и III веков и понять, почему свободные граждане и их жены могли решить, что присоединиться к вооруженному походу на черноморское побережье – хорошая идея, нам необходимо вспомнить еще об одном факторе, который часто фигурирует в современных исследованиях миграции, – внутренняя мобильность.
Жители пшеворской и вельбарской зон – как и обитатели остальной Германии в рассматриваемый период – практиковали смешанное земледелие. Коровы, как сообщает Тацит и подтверждает археология отдельных поселений, были показателем статуса, ими измерялось богатство человека, но основным продуктом оставалось зерно, и его производство являлось краеугольным камнем торгово-промышленной деятельности. Германцы не были кочевниками в прямом смысле слова, они не гоняли стада с летних пастбищ на зимние, как поступали тогдашние степные племена. Однако в первые годы н. э. многие германские сообщества, в том числе и носители вельбарской культуры, еще не обладали достаточным опытом ведения сельского хозяйства, чтобы поддерживать плодородность возделываемых полей дольше одного поколения. Следовательно, поселения не были постоянными, они оставались мобильными. Исчерпав потенциал одних земель, фермеры шли дальше, строя новые дома. В соответствии с этим вельбарские кладбища, похоже, являлись более стабильным ориентиром для жизни и смерти. Они куда дольше оставались востребованными – кладбище в Одри использовалось без малого двести лет, за время которых успело смениться немало поселений – и, возможно, места захоронений служили центрами общественной жизни. Яркая черта вельбарских кладбищ до 200 года, к примеру, – большой каменный круг, в котором не было могил, только в некоторых случаях ставился столб в центре. Археологи сделали вполне правдоподобное предположение, что эти круги отмечали общее место для встреч. Как бы то ни было, вельбарское население явно регулярно меняло место жительства [162].
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу