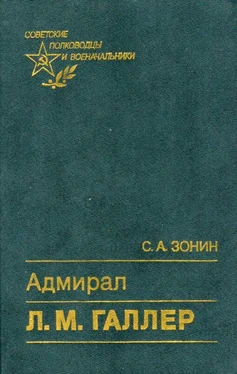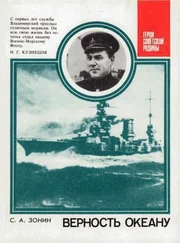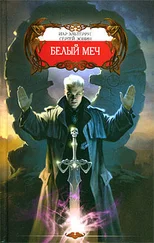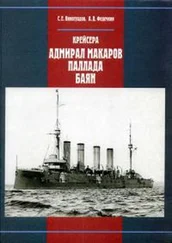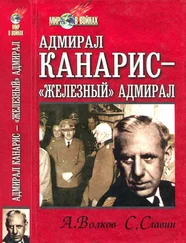На тренировках расчетов своего плутонга Галлер стремится превзойти установленные нормативы заряжания орудий, добивается четкости действий каждого комендора. Он видит, что матросы стараются, работают быстро и весело, охотно откликаются на шутку. По вечерам Галлер часто спускается в кубрик, преодолевая неловкость (трудно начинать разговор!), рассказывает об Испании и Португалии, Средиземном море и Африке, о портах, которые предстоит посетить «Славе». Его слушают с интересом и задают вопросы. Неужели это те самые матросы, думает Галлер, опасаясь которых два месяца тому назад, в начале июня 1907 года, комендант Кронштадтской крепости генерал-лейтенант Иванов приказал снять замки орудий, спрятать все боевое оружие, сдать боеприпасы?! Мичман Лютер, новый товарищ, младший штурман «Славы», рассказал, что командир отряда контр-адмирал Эбергард получил такой приказ, как только «Слава» и «Цесаревич» пришли в Кронштадт после полугодового заграничного плавания. Генерал мотивировал его имеющимися в полиции сведениями о наличии на кораблях революционеров. Эбергард приказ посчитал оскорбительным, и, даже после весьма острого разговора с комендантом, в судовые арсеналы снесли лишь винтовки и револьверы. Однако генерал не успокоился и донес о невыполнении его требования морскому министру адмиралу И. М. Дикову, а тот — царю. Николай II поддержал коменданта. Из замков орудий вынули ударники…
Где же выход, как же российскому флоту готовиться к выполнению долга перед Отечеством, как возрождать морскую мощь, если не верить своим командам?! Галлер, как и другие офицеры «Славы», читает брошюру «Дух и дисциплина нашего флота» капитана 1 ранга А. А. Ливена, начальника штаба Минной дивизии. Делает это с большим увлечением, чем читал «Парижские тайны» Эжена Сю в 3-м классе гимназии. Бывший отважный командир крейсера «Диана» в русско-японскую войну и будущий начальник Морского генерального штаба с горечью писал: «Мы дожили до того, что наши экипажи охраняются сухопутными войсками, что наши суда обезоруживаются перед роспуском Государственной думы, что большая часть рабочих на заводах (судостроительных, принадлежавших морскому ведомству. — С. З.) распущена. Я убежден, что причину всех наших бедствий надо искать не в обстоятельствах времени и не во внешних влияниях, а исключительно в нашем внутреннем строе, в нашей организации…» [15] Ливен А.А. Дух и дисциплина нашего флота, Спб., 1908.
Разумеется, светлейший князь, из близкого ко двору семейства Ливенов (бабушка А. А. Ливена фрейлина Ливен воспитывала цесаревичей, будущих царей Александра II и Александра III), не понимал под сказанным гнилость самодержавия или хотя бы неотложность кардинальных реформ государственного строя России. Вся критика, подчас звучавшая весьма радикально, относилась лишь к морскому ведомству. И здесь, надо признать, правдива и резка. Ливен не скрывает вопиющих беспорядков. Именно грубые ошибки морского ведомства привели к поражениям флота, потому что «накануне объявления войны в Порт-Артуре запрещалось говорить о предстоящем разрыве с Японией. Считали, что такие разговоры произведут панику в личном составе. Мысль о войне всегда отодвигалась, как неприятная…» [16] Там же. С. 9.
Сколько горечи в этих строках!
Предложения Ливена по оздоровлению флота путем проведения соответствующих реформ по душе большинству офицеров. Хорошо, наверное, служить под командованием такого начальника! Галлер даже сожалел, что не добивался назначения в Минную дивизию, которой теперь командовал Н. О. Эссен. Ее дивизионы базировались на порт Александра III, т. е. военный порт Либавы.
Суть предложений Ливена состояла прежде всего в таком обучении и воспитании офицеров, чтобы они в совершенстве знали свое дело, были близки к нижним чинам, заботились о подчиненных. Поднятие воинского духа путем пропаганды боевых традиций, надеялся князь, укрепит воинскую дисциплину. Но для этого необходимо сплочение команды и офицеров, что не может быть достигнуто без постоянного пребывания на корабле. Вывод судов из кампании с переселением команд в береговые экипажи недопустим. Необходимо также надолго закреплять за кораблем командира и офицеров. Галлеру тогда казалось, что осуществление предложений Ливена восстановит на флоте порядок.
С нынешней позиции исторического опыта эти надежды Галлера кажутся легковесными. Но дело не в мичманском прекраснодушии. Подобная историческая социальная инфантильность была свойственна в то время многим офицерам флота, и с большим и более суровым опытом жизни.
Читать дальше