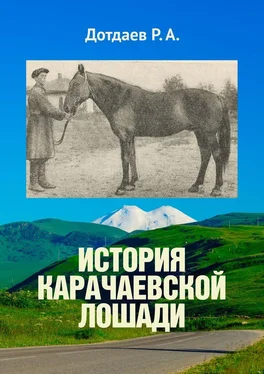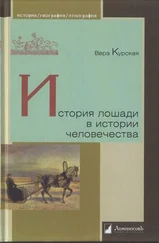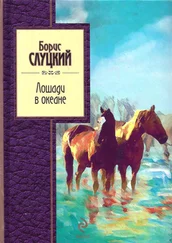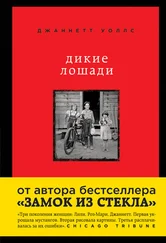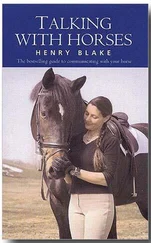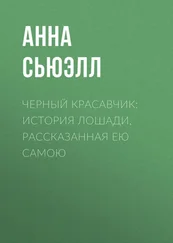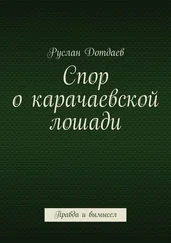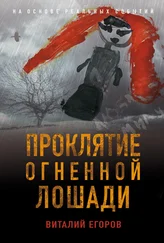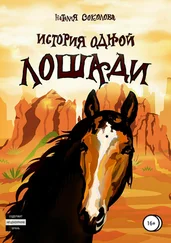1 ...7 8 9 11 12 13 ...21 Приблизительную численность карачаевского транспорта можно попробовать установить следующим путем. Обратимся к журналу боевых действий генерала Бабича, где указаны потери отрядных лошадей. Он сообщает, что убыль на пути к Сухуму составила: 26 строевых (в т. ч. 7 офицерских), 3 артиллерийских и 32 «подъемных и вьючных», всего 61 лошадь. Под Сухумом пали 2 раненные в деле 19 августа артиллерийские лошади. При обратном возвращении в конных сотнях и горном взводе убыло 37 строевых (в т. ч. 2 офицерских), 8 артиллерийских и 10 подъемных и вьючных, всего 55 лошадей. Далее, «особыми комиссиями» были признаны пришедшими в полную негодность 39 лошадей. Всего получается потеря 157 лошадей, что составило, по данным генерала, 15,4% от общего количества 33 33 Материалы для описания Русско-турецкой войны… 1911. – С. 347—348.
.
Из этого можно сделать вывод, что численность отрядных лошадей составляла более тысячи. По тексту видно, что речь идет только о военных лошадях, в том числе вьючных. По данным Е. Фелицына, в отряде насчитывалось до пяти сотен кавалерии, следовательно, остальные пятьсот лошадей должны прийтись на вьючный транспорт. Он также указывал, что общая численность транспорта составляла около 1000 лошадей, следовательно, горских лошадей могло быть до половины состава. Поскольку он упоминал в основном о карачаевских вьючных лошадях, то, учитывая и сведения Г. Петрова, можно сделать вывод, что их было от четырехсот до пятисот. Вероятно также, часть вьючных лошадей предоставили не только карачаевцы, но и другие горцы ( Р. Д. ).
В состав формирующегося Горско-Кубанского конно-иррегулярного полка из горцев области набрали две конные сотни. Е. Фелицын так характеризует получившуюся из них кавалерию: «…из горского населения Кубанской области, в Баталпашинском уезде собраны были две сотни: одна из жителей Карачаевского племени, другая из горцев, живущих по реке Зеленчуку. Весь цвет магометанской молодежи наперерыв стремился попасть в ряды формируемых сотен, и многие из желающих, за недостатком вакансий, с большим сожалением принуждены были остаться дома, не осуществив своих надежд. Нужно было видеть этих джигитов, когда сотни собрались на смотр. Щегольски одетые, увешанные богатым оружием, на прекрасных карачаевских и кабардинских лошадях, они олицетворяли собою образцовую и лихую кавалерию, не оставляющую желать ничего лучшего. Выросшие на коне, каждый из них был прекрасным наездником и искал случая щегольнуть ловкостью и достоинствами хорошо выезженного скакуна своего». Горцы Баталпашинского уезда сами предложили для транспорта своих лошадей, не потребовав за это оплаты; они были, несмотря на это, вознаграждены.
Горские лошади, и особенно карачаевские, оказались незаменимы при формировании состава вьючного транспорта, насчитывавшего до 1000 лошадей и готового как раз к назначенному дню. Транспорт «отслужил свою тяжелую службу с редким усердием и добросовестностью», – констатирует очевидец событий. «Но смело можно сказать, что без горского транспорта отряд не мог двинуться в столь трудный поход. Предполагавшаяся присылка из-за Кавказа черводаров не заменила бы карачаевских лошадей, – подчеркивает Е. Фелицын, – и к тому же потребовала бы огромной затраты денег». Перевозка провианта за Марухский перевал осуществлялась по тяжелейшей тропе, через ледники и снега, в дождь, сырость и холод. Поэтому она возможна была «только на таких лошадях, какими владеют горцы; другие – обладай они самыми лучшими достоинствами, но не рожденные в горах, не вынесли бы и сотой доли того, что пришлось испытать транспортным лошадям». Очевидно, такая помощь народов будущей Карачаево-Черкесии была обусловлена располагающими к тому обстоятельствами. «В высшей степени гуманное отношение к горцам, заботливость об улучшении их быта и внимание ко всяким нуждам этого народа бывшего уездного начальника, полковника Петрусевича, и настоящего, капитана Кузовлева, вселили в магометанском населении уезда полную привязанность и доверие к представителям местного управления» 34 34 Фелицын Е. Марухский отряд (несколько слов о движении его в Сухум) // Газета «Кавказ». Под ред. Н. И. Воронова. – 1878. – №46. Суббота, 25 февраля.
.
Таким образом, гуманное отношение уездного начальства в отношении горцев воспринималось как забота целого государства. Это было далеко не так, например, земельный вопрос карачаевского народа, как будет видно из дальнейшего изложения, так и не решили полностью на всем протяжении царского периода. Карачаевцы-субарендаторы переплачивали огромные проценты предпринимателям, арендующим у государства землю. А Николай Григорьевич Петрусевич более десяти лет своей жизни провел на Кавказе, в Кубанской области. Сначала в должности начальника Эльбрусского округа, потом Баталпашинского уездного начальника, он оставил о себе добрую память среди горцев. В Карачаево-Черкесии его помнят до сих пор, а в недавнее время в Черкесске генералу был установлен памятник, открытие которого состоялось в ноябре 2015 года ( Р. Д. ).
Читать дальше