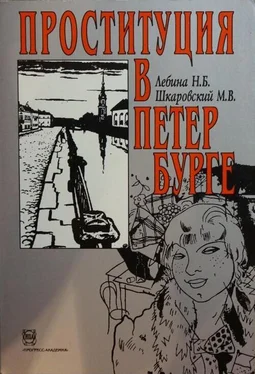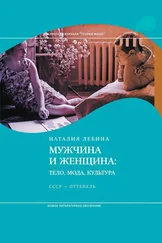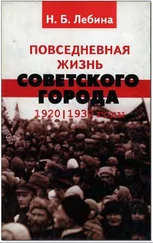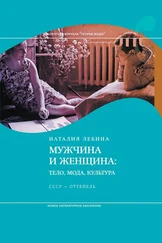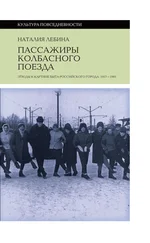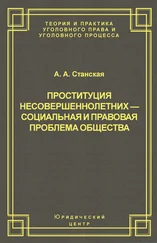Имеются и некоторые цифры, относящиеся к 30-м гг. В 1932 г. ленинградский отдел социального обеспечения вел работу с 2 тыс., женщин, занимавшихся проституцией профессионально. И если следовать милицейской логике, существовало еще по меньшей мере 8—10 тыс. непрофессиональных. Количественные данные, касающиеся второй половины 30-х гг., вообще весьма сомнительны. В 1934 г. на учете в Ленинградском уголовном розыске стояло 700 проституток, связанных с криминальной средой, а в 1935 г., по данным районных собесов, их число достигло 1271. Последние показатели датируются 1936 г.: в Ленгорсобесе числилось около 1 тыс. проституток, проживавших в 7 из 10 районов Ленинграда. В общем-то, эта цифра практически говорит лишь о том, что какой-то учет продажных женщин в конце 30-х гг. еще велся. Но, конечно, реального представления о размахе тайной торговли любовью он дать не мог. Политика растворения продажных женщин в общей массе населения проводилась сознательно — об этом читатель узнает из последующих глав, — она создавала чисто внешнее впечатление о сокращении рынка торговли любовью. В действительности же такая политика вела к образованию в любой социально-профессиональной среде контингента, склонного к проституированию, и явно ослабляла моральные устои общества в целом. Кроме того, государство, уповавшее на то, что торговля собой становится вымирающей профессией, по сути, лишалось возможности контролировать этот вид сексуальной коммерции, а также оказывать посильную помощь по социальной реабилитации женщин, желающих порвать с прошлым. Невозможно лечить болезнь, не определив ее симптомов и не зная количества пораженных ею. Нужно отметить, что в дореволюционном Петербурге ситуация несколько отличалась благодаря системе государственного контроля за развитием проституции. Об этом, в частности, повествует следующая глава книги.
Н. Б. Лебина. Милость к падшим
Многомерный петербургский социум с 40-х гг. XIX в., как уже известно читателю, стал расширяться за счет еще одной быстро развивавшейся группы населения — проституток. Продажная любовь была наконец институционализирована в России, и это поставило перед обществом задачу формирования принципов взаимоотношения с ней. Появилась необходимость выработать правовые и санитарно-гигиенические нормы соприкосновения с официальным институтом торговли любовью, определить его место в городской инфраструктуре. Не менее сложными оказались и морально-этические проблемы, порожденные легализацией проституции.
До 40-х гг. XIX в. прелюбодеяние и блуд в России рассматривались лишь с христианско-православной позиции. Русская церковь яростно пропагандировала идею «злой жены», повинной во всех соблазнах, и прежде всего в первородном грехе. Факт прелюбодеяния, тем более блудодействие, не только осуждался, но и жестоко карался, однако раскаяние могло искупить грех. Милость к падшим воспринималась в общественном сознании лишь как предоставление права возвращения женщины-блудницы к безгрешной жизни. Официальное признание проституции, подразумевающее трактовку этого занятия как определенного ремесла, профессионального промысла, заметно усложняло проблему. Возникал вопрос о духовном облике мужчины-христианина, покупавшего ласки блудницы. Можно ли считать его падшим созданием и какую форму должно В данном случае обрести милосердие?
Рассматривая весь комплекс этих проблем с современных позиций, разумнее подходить к ним с точки зрения, пригодной для изучения всех девиаций в целом. Ведь проституция не имеет сугубо специфических причин, породивших ее. Особое же общественное предубеждение именно против купли-продажи любви, скорее всего восходит к имевшему исторические истоки представлению о том, что половой акт носит мистический, почти магический характер, близкий к священнодействию. Его профанация, а именно так можно истолковать проституцию, не может быть воспринята спокойно, конечно, это в значительной степени относилось к российскому менталитету, где тесно переплелись элементы язычества и христианства. Россиянин мог спокойно соседствовать с кабаком, убежищем нищих, но только не с публичным домом, который к тому же считался порождением западного влияния. Такого мнения придерживались даже жители Петербурга. Во всяком случае, в XVIII в. в русских лубках «злая, развратная жена» изображалась всегда в немецкой одежде. Подобное предубеждение отчасти сохранилось и в XIX в. И все же общество старалось найти приемлемую форму отношений с институтом проституции, что выражалось в системе регламентации последней.
Читать дальше