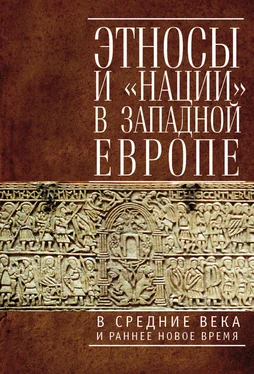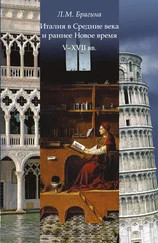1 ...6 7 8 10 11 12 ...16 Собственно средневековый этап западноевропейской истории, когда утвердилась новая общественная система, изменил, но не отменил полиморфизм общества в целом, по определенным параметрам даже умножив его. Условия реализации крупной земельной собственности, предопределив необходимость политического иммунитета ее владельцев, – легализовали их частную власть, результатом которой стал полицентризм политической структуры. 4Это обстоятельство не способствовало политической стабильности, особенно в условиях «феодальной раздробленности» (X–XII вв.), тем более, что верховная государственная власть, борясь с внутренним для нее злом полицентризма, – во многих случаях не отказывалась от универсалистских планов, на уровне международных отношений перекраивая политическую карту Западной Европы. Отмеченные тенденции подпитывала, делая возможными, глубинная основа общественной структуры – мелкое производство, что в совокупности условий предопределило сущностную черту средневекового общества – его партикуляризм. Это обстоятельство не могло не отразиться на судьбах интересующего нас вопроса этнического развития, обнажив главное условие в процессе формирования социально – политических организмов, какими должны были стать нации – непременное преодоление средневекового партикуляризма, должное обеспечить рождение нового «единства» человеческих сообществ. Подобный процесс имел постепенный, относительный по своим итогам характер и, главное, – не мог стать результатом только политического развития.
В этом контексте особый интерес представляют процессы, происходившие в западноевропейском обществе в период XIII–XV вв. и раннее Новое время, которые открывали и реализовывали движение по данному пути.
В исторической литературе, особенно общего характера, оценка значимости отмеченных изменений часто ограничивается, в частности, для «отправного» отрезка времени XIII–XV вв., – их ролью в процессе централизации – действительно очень важного рубежа в истории западноевропейских народов и государств. Однако само понятие «централизации» оказывается недостаточным для обозначения глубины начавшейся модернизации самой структуры средневекового общества, замыкая внимание на государственной политике, даже если при этом не игнорируются социально-экономические предпосылки для ее реализации. Общий и вместе с тем сущностный смысл процесса модернизации в интересующем нас аспекте анализа целесообразнее было бы определить понятием «консолидации», способным стать общим и знаковым для всей совокупности общественных отношений – экономических, социальных, политических и духовных. Применительно к процессам формирования протонациональных образований в условиях сохранявшего себя этнического полиморфизма, понятие «консолидация» также демонстрирует свою известную корректность, не купируя ни одну из трудностей на этом пути: вариативный и неоднозначный характер процессов, возможность их конечной незавершенности, могущей взорвать на каком-то этапе «национальную» общность.
Именно консолидация сообщества как глубинный и комплексный процесс способствовала с большим или меньшим успехом и в зависимости от конкретно-исторических условий, – преодолению любых локальных, в том числе этнических, привязанностей и норм жизни, не всегда уничтожая, но перекрывая их, отодвигая в сферу по преимуществу частных отношений, предлагая членам сообщества в вопросах существования и выживания новые социально-экономические, политические и культурные формы и масштабы жизнедеятельности.
Наша попытка суммировать основные социально-экономические условия процессов консолидации, красноречиво рисует формирование уже для периода XIII–XV вв. нового образа средневекового общества, в известном смысле несущего на себе знаки его будущего конца. Однако, соблюдая принцип «восхождения», было бы правильнее оценить формирование этого нового образа как свидетельство потенциала средневековой общественной системы, не преувеличивая вектора направленности на будущее, во всяком случае в его разрушительных последствиях. Среди причин, призывающих исследователей к осторожности, можно назвать длительную временную протяженность средневековых процессов в экономической и социальной жизни, несмотря на постепенное ускорение темпов развития, особенно заметное в условиях раннего Нового времени. Целесообразно в этой связи вспомнить о признании современной медиевистикой справедливости понятия «долгого Средневековья». Это понятие, некогда введенное Жаком Легофом, должно было подчеркнуть по мысли известного французского историка факты медленного изживания средневековых форм сознания даже на поздних этапах раннего Нового времени. Ныне это понятие приобрело функциональное значение для признания гетерогенности развития в раннее Новое время всей совокупности общественных отношений. Оно существенно корректирует современные представления о сложности «переходного периода» какими для Западной Европы стали XVI и XVII века, когда новый, уже ведущий уклад еще не обрел качественной системной определенности.
Читать дальше