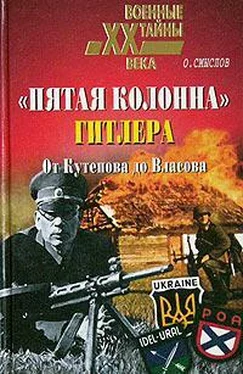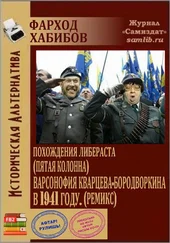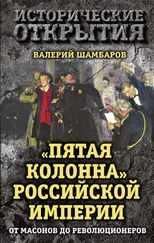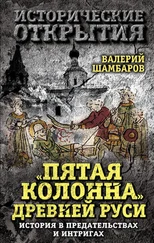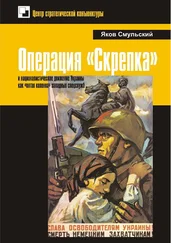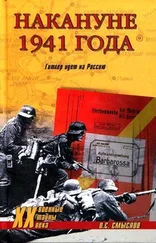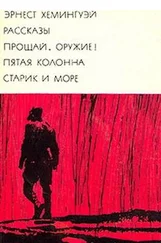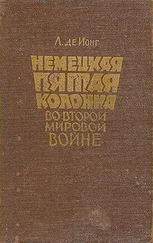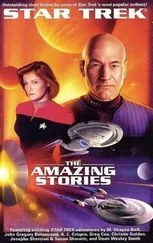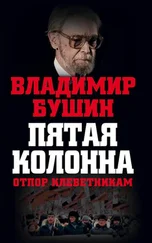В толпе всегда мог оказаться доносчик, и потому вопросы, которые мне задавали, хотя и были часто весьма деликатными, облекались в самые безобидные формы. В этом искусстве подсоветские люди весьма преуспели… Между нами происходили разговоры вроде следующего:
– А далеко ли отсюда до испанской границы?
– Сто километров.
– И все лесом?
– Последняя треть пути безлесная.
– На границе французы?
– Нет, границу охраняют, и весьма бдительно, немцы.
Один только раз кто-то, не то по простоте, не то по умыслу, нарушил нейтральный тон наших бесед, задав мне вопрос:
– Скажите, генерал, почему вы не идете на службу к немцам? Ведь вот генерал Краснов…
– Извольте, я вам отвечу: генерал Деникин служил и служит только России. Иностранному государству не служил и служить не будет.
Я видел, как одернули спрашивающего. Кто-то пробасил: «Ясно».
И никаких разъяснений не потребовалось.
Не было ни одной группы посетителей, не проходило ни одного дня, чтобы мне не задавали с нескрываемой скорбью сакраментальный вопрос:
– Как вы думаете, вернемся мы когда-нибудь в Россию? Видно было, что никто уже не верит в победу немцев, и у меня перед большой картой, на которой линия фронта неизменно и быстро продвигалась на запад, толпились люди, испытавшие, видимо, двойное чувство: подсознательной гордости своей родиной и своей армией и… страха за свою судьбу.
Приходили ко мне и малыми группами сжившихся между собой друзей, и тогда разговор терял свой условный характер и становился доверительным. Приходили старики – участники белого движения, которые ни в чем не изменились за 25 лет большевистского режима… Приходило много молодежи, мало по-настоящему образованной, с превратными понятиями, но развитой больше, чем было в наше время, любознательной и ищущей. Они не скрывали от меня, что состояли в комсомоле; но, видимо, при столкновении с внешним миром глаза их открывались и коммунистическая труха спадала с них легко… Большинство уверяли, что поступили в комсомол только потому, что иначе «не было никакого выхода в жизни».
Приходили разновременно и два коммуниста. Один – офицер – пытался даже доказывать коммунистические «истины», явно зазубренные из краткого конспекта истории партии, и похваливался советской «счастливой жизнью». Но, уличенный в неправде, сознавался, что пока ее нет, но будет… Другой коммунист, более скромный, нерешительно оправдывался в своей принадлежности к партии.
Я спросил:
– Скажите, чем объяснить такое обстоятельство: вам известно, что, если бы немцы узнали, что вы коммунист, вас бы немедленно расстреляли. А вы не боитесь сознаться в этом?
Молчит.
– Ну, тогда я за вас отвечу. Перед своими советскими вы не откроетесь, потому что 25 лет вас воспитывали в атмосфере доносов, провокации и предательства. А я, вы знаете, хоть и враг большевизма, но немцам вас не выдам. В этом глубокая разница психологии вашей – красной и нашей – белой.
Из длительного общения с соотечественниками в немецких мундирах я вынес совершенно определенное впечатление, что никакого пафоса борьбы русско-германского сотрудничества среди них в огромном большинстве нет и в помине. Просто люди попали в тупик и искали выхода. В тупик между ужасными условиями концентрационных лагерей и огульной советской властью пленных как «дезертиров» и «предателей», со всеми вытекающими отсюда последствиями. Так, по крайней мере, все они думали.
Но все, положительно все, испытывали страшную тоску по родине, семье и дому. Невзирая на все тяготы советской жизни, невзирая на ожидающие их кары, многие готовы были вернуться в Россию при первой возможности. Отрицательное отношение к немцам не только высказывалось у меня, в четырех стенах, но и выносилось на улицу, в кабаки, где русские люди братались с французами, запивали свое горе и громко, открыто поносили «бошей». Где полупьяный казак, заучивший нескольк о французских слов, показывая на свой мундир, говорил:
– Иси – алеман! И потом, рванув за борт, показывая голую грудь:
– Иси – рюсь!
Надо сказать, что большинство чинов этого батальона были пленные 1941 – 1942 годов – времени поражения Красной Армии и исключительно тяжелого режима концентрационных лагерей, и потому с несколько пониженной психофизикой.
В своих собеседниках я видел несчастных русских людей, зашедших в тупик, и мне было искренне жаль их. Они приходили ко мне, ища утешения. Великодушие со стороны «отца народов» я им, конечно, сулить не мог, но с полным убеждением заверял, что всякая другая русская или иностранная власть осудит, но простит. Если только… во благовремение они вырвутся из немецкого мундира…
Читать дальше