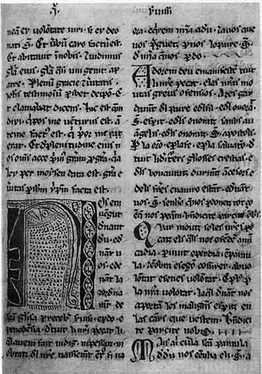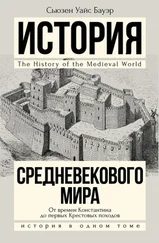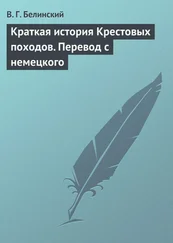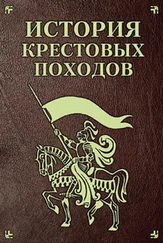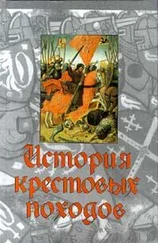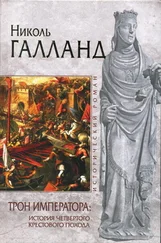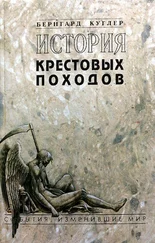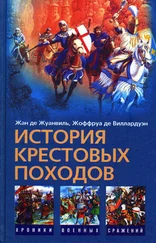Король вел себя как человек государственный, не проявлял особенной обеспокоенности развитием ереси, а к крестовому походу был расположен даже менее, чем того требовали приличия. Он написал папе, что сомневается в законности такого предприятия и примет крест лишь после того, как папа обяжет короля Англии не вторгаться во Францию и узаконит специальный налог для содержания крестоносцев. В феврале 1209 года, в разгар подготовки армии к выступлению, Иннокентий III пишет Филиппу Августу: «Тебе мы особенно доверяем в деле Церкви Божией. У армии правоверных, поднявшихся на борьбу с ересью, должен быть командир, которого слушались бы беспрекословно. Мы просим Твою Королевскую Светлость выбрать своей волей человека решительного, благоразумного и законопослушного, который повел бы под твоим знаменем бойцов за святое дело» [8]. Но король и сам откажется, и сына не пошлет, и даже не возьмет на себя ответственность назначить доверенного действовать от его имени. И крестовый поход, в котором папа хотел использовать короля Франции как легальное светское оружие Божьего суда, останется тем, чем он и был на самом деле: войной, развязанной Церковью. Бароны, принявшие крест, станут солдатами Церкви, а в военачальники себе выберут папского легата, аббата из Сито Арно-Амори.
Очередь короля Франции придет позже.
Среди баронов, принявших крест в 1209 году, известны уже упоминавшиеся Эд II, герцог Бургундский, Эрве IV, граф Неверский, а также Гоше де Шатийон, граф де Сен-Поль, Симон де Монфор, Пьер де Кутерней, Тибо, граф де Бар, Гишар де Боже, Готье де Жуаньи, Гийом де Роше, сенешаль Анжуйский, Ги де Левис и другие. Военачальниками были также и архиепископы Реймский, Санский, Руанский; епископы Отена, Клермона, Невера, Байе, Лизье, Шартра, приняв крест, возглавили экспедиционные корпуса, состоящие как из воинов, так и из пилигримов, несведущих в военном искусстве, но жаждущих послужить делу Господа.
Прошел год со дня смерти Пьера де Кастельно, и Лангедок начал понемногу осознавать нависшую над ним опасность.
Графа Тулузского, при всем уважении к нему крестоносцев его сословия, дискредитировали слухи о причастности к убийству легата, а поскольку это преступление не являлось достаточным поводом для остракизма у баронов, которые сами вечно были на ножах с клерикалами, то папская пропаганда была вынуждена сгущать краски до самой черной. Петр Сернейский, верный представитель экстремистского клана Христова воинства, явно возводит напраслину на ненавистного графа. И нравы его омерзительны, он не чтит таинство брака (невелик грех, среди баронов тех времен верные мужья – большая редкость), и женат он был пять раз, и две из его отвергнутых жен еще живы, и в юности он соблазнял наложниц собственного отца (правда, обвинение запоздалое, графу уже 52 года). Его причастность к убийству Пьера де Кастельно всем известна (хотя сам папа осмеливался выражать лишь полууверенность). В качестве доказательства хронист приводит рассказ о том, как Раймон VI водил убийцу по своему домену и говорил при этом: «Смотрите на этого человека, он один любит меня по-настоящему и сумел сделать все, что я пожелал...» Эти слова казались горькой иронией. Но вряд ли Раймон VI мог позволить себе подобную шутку: осторожный политик, не забывающий о сохранении выгоды, граф Тулузский если бы и повелел убить (что само по себе маловероятно), то уж никак не назвал бы исполнителя. А если убийца и не был наказан, то, по-видимому, лишь из уважения к общественному мнению: в тех краях поднявший руку на ненавистного легата выглядел в глазах сограждан героем. Здесь и папа, и вожди крестоносцев не ошибались: ответственность за убийство взяла на себя вся страна, и графа можно было сдать толпе правоверных только как хозяина этой страны. А вина его в глазах правоверных была чудовищной: он не только относился к ереси спокойно, он ей потворствовал.
Свидетельства тому многочисленны, и вряд ли все они исходят от врагов графа. Утверждали, что он окружал себя еретиками, оказывал им подчеркнутое уважение и даже подумывал отдать им на воспитание сына. Известно было, что он не только систематически преследовал церкви и монастыри, но и, присутствуя при мессе, заставлял своего шута передразнивать священника. Его видели преклоняющим колена перед служителями еретического культа, однажды в припадке ярости он вскричал: «Воистину этот мир создан дьяволом – ничего не получается, как я хочу!» Короче говоря, устами Петра Сернейского (склонного к словесной невоздержанности, но точного выразителя образа мыслей своего круга) Церковь считала графа «порождением дьявола, пропащим преступником, сосудом греха» [9]. Иннокентий III в оценках не отставал: «...жестокий и безжалостный тиран, человек бесчувственный и презренный» [10].
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу