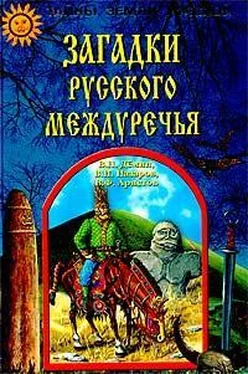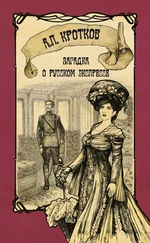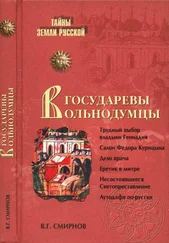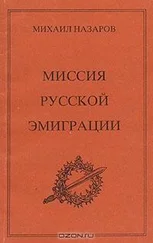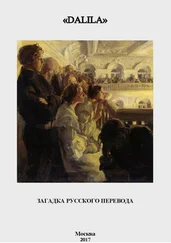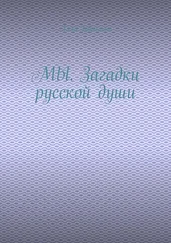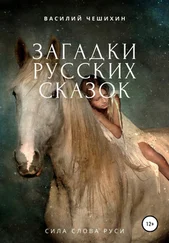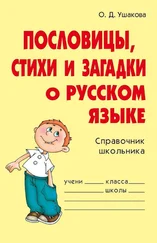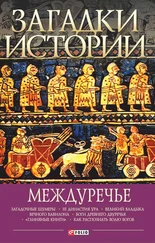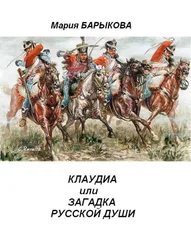По-видимому, как на купальском празднике, так и при всех других годовых обрядах сжигаемый огонь представлял видимый образ того невидимого, но ощущаемого духа, который возводил весну и лито, творил созревание жита и всякой растительности, давал спорынью, плодородие; который и в существе самого человека обнаруживал свои действия особым буйством и яростью жизни, что, конечно, всегда и сопровождалось обычными вакханалиями и игрищами. В 1505 году один игумен так описывал купальскую вакханалию в городе Пскове: «Когда приходит этот великий праздник, день Рождества Предтечева, и в ту святую ночь мало не весь город возмятется и взбесится… Встучит город сей, и возгремят в нем люди… стучат бубны, голосят сопели, гудут струны; женам и девам плескание (плеск в ладоши) и плясание, и главам их накивание, устам их кличь и вопль, все скверные песни, хребтом их вихляние и ногам их скакание и топтание; тут мужам и отрокам (парням) великое прельщение и падение; женам замужним беззаконное осквернение, девам pacтление…» По свидетельству Стоглава, люди, возвращавшиеся домой с этих вакханалий, падали, аки мертвые, от того великого хлохотания. «Те же псковичи, – прибавляет игумен, – в тот святый день выходят, обавники, мужчины и женщины, чаровницы, по лугам и по болотам, в пути и в дубравы, ищут смертной травы и привета, чрево-отравного зелия, на пагубу человечеству и скотам, тут же и дивие копают коренья на потворение и на безумие мужам; это все творят с приговоры сатанинскими…» Мы видели, что вещие травы собирались и на Петров день – 29 июня. Точно так же на другой день после этого праздника, то есть с наступлением мясоеда, происходят особые вакханалии, которые, несомненно, те же купальские или Яруновы вакханалии, перенесенные на мясоед, вероятно, вследствие церковных запрещений веселиться в постные дни.
Таким образом, в течение целого полугодия, в промежутке солнцевых поворотов от зимы на лето и от лета на зиму, язычник праздновал постепенное восхождение природы от холодного, мертвого сна к цветущей и огненной поре лета. Он внимательно и чутко следил за каждым дуновением весеннего тепла, этого радостного и милостивого духа, пел ему песни, водил хороводы, завивая и развевая венки, гадая о счастье и любви и живя сам радостной жизнью всеобщего возрождения; искренне веровал, что той же жизнью должны веселиться и умершие (каковы русалки), что они заодно со всей природой участвуют в ее возрождении и дышат тем же теплом жизни и веселья. По пословице «живой живое и думает», язычник не мог иначе и понять состояние земных дел во время оживления всей природы.
С окончанием купальских празднеств наставала, по народному выражению, макушка лета, начиналась страда – горячая пора полевых работ, следовавших одна за другой без устали и без отдыха. Песни, хороводы, игрища притихали. «Плясала бы баба плясала, да макушка лета настала», – говорит народ об этой страдной поре. «Всем лето пригоже, да макушка тяжела!»
Работы начинались сенокосом, потом следовало жнитво. Созревший хлеб, конечно, возводил мысль язычника к «растителю класов», к Божеству хлебного плодородия, которым, по-видимому, у нас почитался Волос или Велес. Сам праздник жатвы называется волотками. На юге России в начале жатвы завивают волосу бороду. Это делает одна из жниц: захватив в руку куст колосьев, она свивает их на корню, как косу, потом заламывает и в таком виде оставляет. Этот куст-завиток приобретает святое значение; к нему опасаются и прикоснуться из боязни, что от прикосновения того человека изогнет и скорчит в такой же завиток. В костромских местах в начале жатвы оставляют на ниве волотку на бородку – куст несжатых колосьев. На севере (Архангельская губерния) подобный обряд делается в конце жатвы: последние несжатые колосья связывают на корню снопом и украшают этот сноп цветами. Там употребляются даже выражения «хлебную бороду завить» – значит окончить жатву и убрать хлеб; «сенную бороду завить» – окончить сенокос и убрать сено. В Новгородской губернии при завивке Волосу бороды жница воспевает:
Благослови – ка меня, Господи,
Да бороду вертеть:
А пахарю-то сила,
А севцу-то каравай,
А коню-то – голова,
А Микуле – борода.
Если это имя, Микула, должно обозначать известного мифического пахаря русских былин Микулу Селяниновича, то здесь он прямо сближается с Волосом, который, следовательно, не только пастух, скотий Бог, но и селянин-пахарь. Мы уже заметили, что он, точно так же как скифский третий брат, обладал золотой сошкой.
Читать дальше