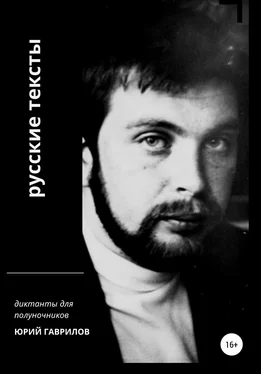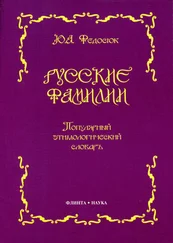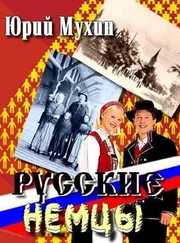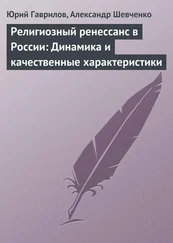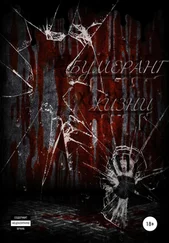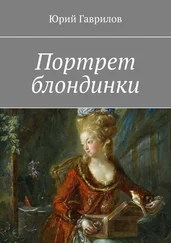И тут же новый ураган, Анатолий Штейгер, молодой поэт, чахотка. Конечно же, он гений, брошены все, она летит в санаторий (и деньги всегда находились на море, на санаторий), пишет лихорадочные строки: «Вы мой захват и улов, как сегодняшний остаток римского виадука, с бьющей сквозь него зарею…»
Штейгер быть руиной виадука не пожелал, вечерней зарей – Цветаева ему в матери годилась, не прельстился и бежал.
«Горько. Глупо. Жалко», – подвела итог Цветаева. И все эти афронты, убеги от нее, унижения – как с гуся вода.
Ариадна уличила мать во лжи, получила пощечину и ушла из дома; в марте 1937 года она уехала в СССР.
Борис Пастернак предупреждал: «Марина, не езжай в Россию, там холодно, сплошной сквозняк». Яснее, определеннее он сказать не мог, но кто лучше Цветаевой понимал птичий язык ее многолетнего эпистолярного урагана.
В эмиграции ее называли «царь-дура», все связи были порваны, работы никакой.
Она пишет ослепительные, невыносимые «Стихи к Чехии».
После прочтения этих строк любой человек с живым сердцем на какое-то время умирает, потому что эту боль невозможно превозмочь.
«Отказываюсь быть», – петушиное слово произнесено, судьба решена, это – не конец главы, это – конец книги, конец жизни, в которой слагались стихи. Но жить жизнью нищей и тесной, жизнью, как она есть, она обязана, потому что существует Мур.
«Мой сын будет понимать речь зверей и птиц и открывать клады. Я его себе заказала», – писала Марина Ивановна Пастернаку.
Не буди лихо, пока оно тихо.
Мур родился одаренным мальчиком и едва научившись говорить, он сказал матери: «Мама, вы в маленьком совсем не эгоист: все отдаете, всех жалеете. Но зато в большом вы страшный эгоист и совсем даже не христианин».
Подросши, он на все увещевания матери монотонно отвечал: «Мама, вы – дура».
В Елабуге он сказал: «Кого-то из нас вынесут из этого дома вперед ногами», а мать уже знала кого, она еще в 40-м году писала: «Ищу глазами крюк. Я год примеряю смерть. С этим (поэзией) кончено. Все уродливо и страшно».
Но жить в России зрячему всегда страшно. Это большое мужество и терпение надо иметь – жить в России, а страдать – это уж само собой.
Марина Ивановна повесилась на веревке, которую Пастернак принес для сборов в московскую квартиру, чтобы перевязать чемодан.
Мур сказал: «Моя мать повесилась. И правильно сделала», и на похороны не пошел. Круг замкнулся.
Вот несколько строк из ее дневников и писем:
Ничего на свете не любила, кроме собственной души.
Любовь – это оттуда, из «мира тел».
Любовь – соединение душ, но не тел.
– здесь некоторое противоречие, и далее:
Любви я не люблю и не чту. (к Рильке)
Я не живу на своих устах, и тот, кто меня целует, минует меня.
Не хочу писать любовные стихи, ибо за земную любовь и гроша не дам, – а писала всю жизнь только о любви.
Личная жизнь не удалась. Причин несколько. Главная в том, что я – я.
Пошлину «бессмертной пошлости» она заплатила сполна.
«Лицом повернутая к Богу, ты тянешься к нему с земли…» (Пастернак) – ханжество и «благоухающая легенда», если под Богом (конечно же!) подразумевается Христос. К христианству она относилась насмешливо и свысока.
Лицом повернутая к Слову?
«Но если есть Страшный суд слова – на нем я чиста».
И это – единственная правда в ее жизни, сквозь все позы, все «ураганы», всех «единственных» и близких, единственная страшная правда – перед своим богом, Словом, она чиста.
Могилу ее не нашли, и крест стоит над пустой матерой глиной.
О слезы на глазах!
Плач гнева и любви…
Плачу и рыдаю.
Маяковский Владимир Владимирович
(1893–1930)
Поэт
«Я – величайший Дон Кихот», – громогласно аттестовал себя поэт. («Весь я в чем-то испанском…»)
Напялил желтую кофту и «штаны из бархата голоса», украденные у какого-то француза и громогласно (только так!) поведал читателю о рыцарских подвигах:
«Я люблю смотреть, как умирают дети», «отца …. обольем керосином и в улицы пустим – для иллюминаций», «любую красивую, юную, души не растрачу, изнасилую и в сердце плюну ей!» – может быть, конечно, это все очень талантливо, особенно плевок в сердце, гармония, так сказать, благородного намерения и изысканной топорности формы, но смердит невыносимо.
Правда, одни говорят, что это – поэтическое озорство, другие зрят здесь удаль молодецкую.
Вот уж воистину, для красного словца не пожалеешь и отца.
Читать дальше