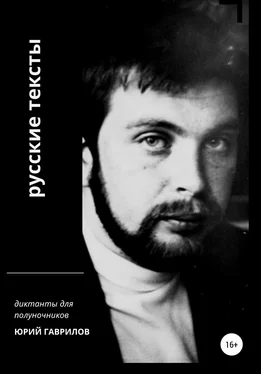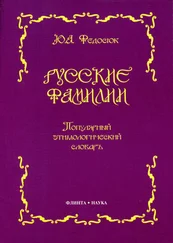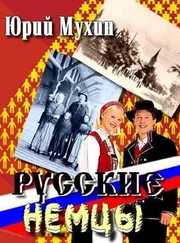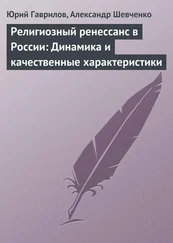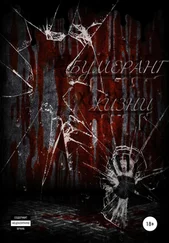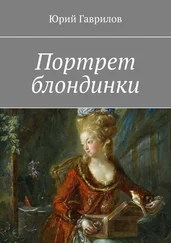И сел работать. Но впервые в жизни
Ни «Моцарт и Сальери», ни «Цыганы»
В тот день моей не утолили жажды.
«Тяжелая лира» Ходасевича не просто тяжелая, она неподъемная, и он прикован к ней, как каторжник к ядру. «Я падаю в себя», – провозглашает поэт, выдавая желаемое за действительное. Россия и революция, поэзия и русская речь – вот что составляет обнаженный нерв творчества Ходасевича.
Воспринимая революцию как смерть души, страны и народа, он знал:
Так и душа моя идет путем зерна:
Сойдя во мрак, умрет – и оживет она.
И ты, моя страна, и ты, ее народ,
Умрешь и оживешь, пройдя сквозь этот год, —
Затем, что мудрость нам единая дана:
Всему живущему идти путем зерна.
Ходасевич эмигрировал: Германия, Франция, Италия – словом «Европейская ночь». «Все каменное, в каменный пролет уходит ночь» – гадость…
Он, и как спасение, вспоминает свою кормилицу:
Там, где на сердце, съеденном червями,
Любовь ко мне нетленно затая…
В этом «сердце, съеденном червями» – весь Ходасевич.
И вот, Россия, «громкая держава»,
Ее сосцы губами теребя,
Я высосал мучительное право
Тебя любить и проклинать тебя.
И млечное родство с языком, без которого не бывает полноценной личности, обостренное у Ходасевича до растворения в языковой стихии:
Люблю из рода в род мне данный
Мой человеческий язык:
Его суровую свободу,
Его извилистый закон…
О, если б мой предсмертный стон
Облечь в отчётливую оду!
(1889–1966)
Я Гумилеву отдавал визит,
Когда он жил с Ахматовою в Царском.
Ахматова устала у стола,
Томима постоянною печалью,
Окутана невидимой вуалью
Ветшающего Царского Села…
Это – enfant terrible Серебряного века, Игорь Северянин, из безмятежной в 24 году Эстонии.
Здесь весь джентльменский набор дореволюционных представлений об Ахматовой – томная, печальная, утомленная; тут же (куда же без нее) вуаль и Царское Село. Этакая акварель не то Бакста, не то Сомова, а, может быть и Бенуа.
Не знал эгофутурист, что той, прежней Ахматовой, нет более; что уже написаны программные «Мне голос был» и «Не с теми я, кто бросил землю…», в которых была угадана дальнейшая жизнь и судьба.
Утешный голос в 17 году обещал:
Я кровь от рук твоих отмою,
Из сердца выну черный стыд,
Я новым именем покрою
Боль поражений и обид.
Но равнодушно и спокойно
Руками я замкнула слух,
Чтоб этой речью недостойной
Не осквернился скорбный дух.
Дух поэта, преисполненный скорби и суетные соблазны несовместимы, как гений и злодейство. Те, кому это было адресовано, не поверили Ахматовой: «царскосельская веселая грешница» и вдруг…
Через пять лет она высказалась еще более жестко и определенно:
А здесь, в глухом чаду пожара
Остаток юности губя,
Мы не единого удара
Не отклонили от себя.
И знаем, что в оценке поздней
Оправдан будет каждый час…
Но в мире нет людей бесслезней,
Надменнее и проще нас.
Не «крылатую свободу» она выбрала, а невыносимую, лютую родину, и обрела надменность Данте, своими ногами попиравшего ад.
Вещая природа гения подсказала ей, что все, оставшееся за чертой, надо от себя отрезать, беспощадно, безвозвратно, себя от себя отрезать, стать другой. И не единого удара не отклонять, быть с той землей, в которую ляжешь, быть со своим народом, все пережить, все запомнить, выстоять, стать голосом времени – великим поэтом.
В неистовую ярость приводили Ахматову те западные исследователи ее поэзии, которые утверждали, что главная часть ее творчества состоялась до 17 года, что после революции она писала мало и не о том, о чем должна была бы писать.
Ее хотели запереть в тесной каморке полумонашенки, полублудницы; она, наверное, ненавидела хрестоматийную перчатку, надетую не на ту руку, как Фаина Раневская, ненавидела свое знаменитое: «Муля, не нервируй меня!»
Но ее описывали, словно музейный экспонат, не желая замечать то, что она говорила так внятно:
Флобер, бессонница и поздняя сирень
Тебя – красавицу тринадцатого года —
И твой безоблачный и равнодушный день
Напомнили. А мне такого рода
Воспоминанья не к лицу…
Читать дальше