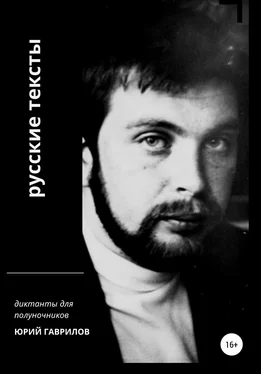Склонный к простудам, отечный, вследствие сидячего, по необходимости, образа жизни, болезненно мнительный, он всегда мечтал забиться, «спрятаться куда-нибудь в угол»; всякие знаки внимания он воспринимал, как насилие над собой, и тогда он издавал глухие стенания: «пощадите, простите». Писатели решили отметить его литературный юбилей, он впал в панику и согласился принять, разумеется, у себя дома, ближайших сотрудников по «Вестнику Европы» со строжайшим условием, что не будет произнесено никаких поздравительных речей.
Горячечной фантазией Гончарова на многие годы стало убеждение, что другие писатели, и, прежде всего Тургенев, обкрадывают его в литературном отношении, воруя у него положения и героев (Марк Волохов – Базаров; Татьяна Марковна «Обрыва» – Марфа Тимофеевна «Дворянского гнезда»).
Когда Тургенев приезжал в Петербург, Гончаров переставал появляться в обществе: «Чеченец ходит за рекой» и «Сказал бы словечко, да волк недалечко», – объяснял он свое поведение. Он стал объектом злых насмешек «Обличительного поэта» (Д. Минаева): в стихотворении «Парнасский приговор» некий русский писатель, «вялый и ленивый, как Обломов, приносит богам жалобу на собрата:
Он, как я, писатель старый,
Издал он роман недавно,
Где сюжет и план рассказа
У меня украл бесславно…
У меня – герой в чахотке,
У него – портрет того же;
У меня – Елена имя,
У него – Елена тоже,
У него все лица также,
Как в моем романе, ходят,
Пьют, болтают, спят и любят…
Гончаров отозвался кротко: «с такой натурой, как моя, нужна не крапива смеха и не грубые удары всевозможных бичей».
И такой человек, «вялый и ленивый», первым из русских писателей совершил двухлетнее кругосветное путешествие: из Петербурга до Японии на военном фрегате «Паллада», из Японии в Петербург – через Сибирь – и это в 1854 году!
Он написал два тома путевых заметок, жанр самый модный в то время, это все знают, все читали… Менее известен другой факт: на стоянке в одной из гаваней Японского моря командующий русской экспедицией адмирал Путятин получил известие о войне, объявленной России со стороны Англии и Франции.
Адмирал под секретом сообщил Гончарову, что, так как парусная «Паллада» не может ни сражаться с винтовыми пароходами противника, ни уйти от них, он в случае встречи с неприятелем решил сцепиться с ним абордажными крючьями и взорвать оба корабля.
Гончаров был человеком штатским, он мог сойти на берег без нарушения присяги, без бесчестья, но он остался и на последнем переходе не выказывал ни малейших признаков волнения.
Герцен Александр Иванович
(1812–1870)
– Александр Иванович! Барин! Как же быть? Совершенно не к кому обратиться! – взывал затравленный Мандельштам. А барин изволили выехать за границу, еще в 1847 году, навсегда.
А Александр Иванович читали Гегеля как алгебру революции, чем до смерти, узнай он об этом, напугали бы законопослушного немца.
Во второй, новгородской ссылке Герцен был под полицейским надзором… у самого себя – такие вот шутки николаевской бюрократии.
В Москве, в сороковые годы, в гостиной на зеленых диванах аксаковской гостиной сидя, Герцен разжег самый великий русский спор; нескончаемый, страстный, философский, жизненный и бессмысленный: славянофилы – западники.
Причем главный славянофил начал с издания журнала «Европеец», а главный западник кончил надгробным памятником, обращенным лицом к России.
Он слышал мерные залпы в поверженном революционном Париже – это расстреливали пленных повстанцев.
Он, единственный в эмиграции, не поверил Нечаеву, золотушному бесу русской революции.
Герцен стал издавать «Колокол» с девизом «Зову живых!». Боже, как читали «Колокол» в России, как везли его туда, как прятали, как хранили!
Царь запретил высылать Герцену доходы с имения – деньги шли на революционную пропаганду, Герцен пожаловался на царя банкиру Ротшильду, кредитору российского императора: «Барон! Вы даете взаймы революционеру. Император Николай не признает священного права частной собственности!..» Ротшильд принял сторону Герцена.
«Мещанство – окончательная форма западной цивилизации», – и западник поверил в русскую крестьянскую общину. Но тот, кто верит в Россию, – тот умножает скорбь. Здесь причины духовной драмы.
Откройте любой том «Былого и дум» – это биография Европы и России, трагедия обманувшейся мысли, крушение последних надежд, в том числе и наших; здесь кипят страсть и кровь, а не холодная сукровица заокеанских боевиков.
Читать дальше