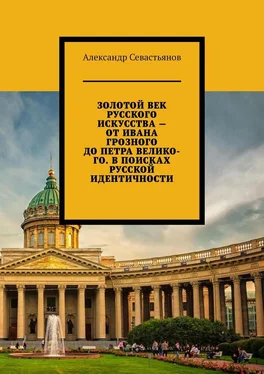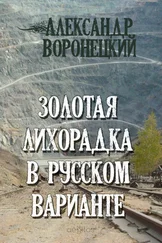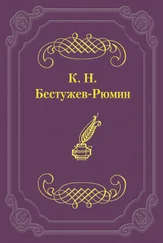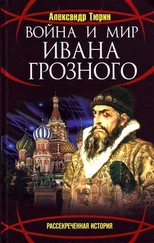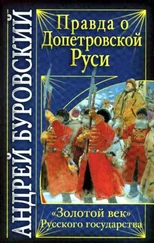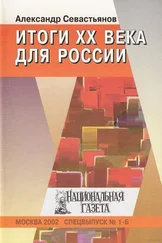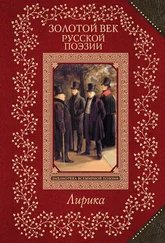В связи со сказанным хочу перечислить основных авторов, чьи труды по русской истории и искусству XVI—XVII вв. сыграли для настоящей монографии роль опорных, основополагающих: Александровский М., Алпатов М. В., Астафьева Н. А., Баранова С. И., Баталов А. Л., Бекенева Н. Г., Брюсова В. Г., Бусева-Давыдова И. Л., Вилкова M.В., Виппер Б. Р., Висковатов А. В., Вишневская И. И., Власова О. М., Гамлицкий А. В., Глазунова О. Н., Горностаев Ф. Ф., Грабарь И. Э., Забелин И. Е., Заграевский С. В., Ильин М. А., Кириченко Е. И., Кирпичников А. Н., Ковригина В. А., Комаров И. А., Комашко Н. И., Кравченко А. С., Кузнецова О. Б., Лазарев В. Н., Лясковская О. А., Мартынова М. В., Мартынова Т. В., Маясова Н. А., Муратов П. П., Немировский Е. Л., Нерсесян Л. В., Овчинникова Е. С., Орленко С. П., Панченко А. М., Подъяпольский С. С., Постникова-Лосева М. М., Раппопорт П. А., Робинсон А. Н., Руднева Л. Ю., Савина Л. Н., Сарабьянов В. Д., Сидоров А. А., Смирнова Э. С., Соболев Н. Н., Тихомирова Е. В., Усачев А. С., Уткин А. П., Филюшкин А. И., Хромов О. Р., Цицинова О.А, Черникова Т. В., Черная Л. А., Языкова И. К. По ходу повествования мне не раз доводилось на них ссылаться, а также цитировать, подчас обильно, поскольку лучше них тот или иной тезис никто не изложил, а пересказывать их тексты своими словами – занятие пошлое и пустое. С некоторыми из названных авторов пришлось полемизировать, но это не лишает их заслуженного места в списке.
В свое оправдание хочу привести строки из лучшей биографии Л. Н. Гумилева: «Безусловно, историку надо извлекать факты из исторических документов, а не из книг предшественников. Но, с другой стороны, если бы Гумилев пользовался таким старым, надежным дедовским методом, никогда бы он не создал пассионарной теории этногенеза, не написал бы даже половины своих книг. Метод Гумилева – брать факты из обобщающих монографий и сопоставлять – был единственно возможным… Историки в большинстве своем не ценят теоретиков… Но совсем без теории нельзя, и вот историки идут на поклон к философам и социологам, хотя те создают совершенно умозрительные модели» 6 6 Беляев С. С. Гумилев сын Гумилева… – С. 719—720.
. Но умозрительные, далекие от реалий жизни и истории модели, вообще спекулятивная философия – это как раз то, что для автора этих строк в принципе неприемлемо и без чего он стремился обойтись, сознательно убегая от всякой схоластической отвлеченности и псевдонаучного блудословия, свойственного «науке мнений» в отличие от «науки фактов и знаний».
Итак, перед читателем – концептуальный синтез сведений по важнейшей теме русской истории, в основе которого лежат многоразличные наиболее ценные, интересные и добротные труды по частным вопросам. Хочется верить, что это сообщает некоторую добротность и данному обощающему труду, первому в таком роде. В этом особенность номер один метода.
* * *
Реконструировать русскую историю допетровского периода крайне трудно из-за гигантских лакун в письменном наследии, образовавшихся в результате различных трагических перипетий. Поэтому историк вынужден работать в условиях, когда роль документа играет артефакт. Но это значит, что необходимо учиться артефакты «читать». Этому, в значительной степени, посвящено настоящее исследование.
Но особенность номер два моей монографии состоит в том, что обсуждение искусства, на взгляд автора, не может осуществляться «насухую», лишь умозрительно, отвлеченно-схоластически. Оно для этого слишком чувственно по своей природе и требует рассмотрения вживую. И коль скоро рассказ о нем не всегда может сопровождатся иллюстрациями (хотя в нынешних условиях Интернет может восполнить этот недостаток), то он требует хотя бы словесных картин и оценок. Что неизбежно влечет за собой определенный субъективизм в подходах. Что поделать, так поступали (вынуждены были поступать) многие даже выдающиеся искусствоведы прошлого, такие, как А. Н. Бенуа, И. Э. Грабарь, В. Н. Лазарев, М. В. Алпатов и др. Не избежали этого и их замечательные преемники более близкого нам времени – В. Д. Сарабьянов, В. Г. Брюсова, И. К. Языкова и др. Не все их субъективные оценки выдержали проверку временем, но читать их, однако, всегда интересно, даже и возражая им мысленно с позиций современного знания. Говоря об искусстве Золотого века, я старался следовать их примеру, не избегая эмоциальности и субъективизма, хотя и не возводя их в ведущий принцип изложения.
Здесь мне могут отчасти послужить оправданием обстоятельства моей биографии. Родившийся и проведший первые годы жизни в обстановке, приближенной к музейной, я в течение сорока лет увлеченно занимался коллекционерством и искусствознанием, исходив многие центры концентрации артефактов – от блошиных рынков до ведущих музеев мира. Определенная натренированность глаза и приобретенные по ходу дела сведения помогли обрести почву для оценок, способных, хочется верить, как можно дольше устаивать против действия времени.
Читать дальше