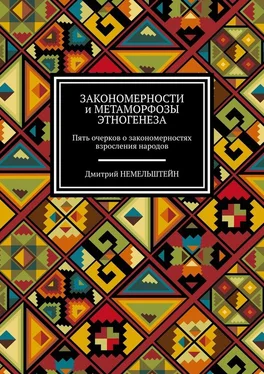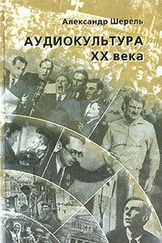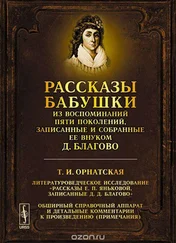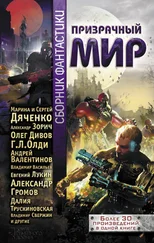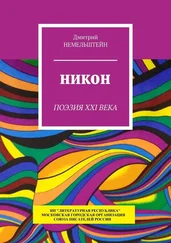Всё это подтверждает тот факт, что религиозная нетерпимость напрямую связана с этногенезом в тех его фазах, когда возникает необходимость оправдания территориально-хозяйственной экспансии, единственно позволяющей этносу дальнейшее развитие. В такой же мере и веротерпимость связана с конкретными фазами этногенеза, когда этнос обустраивает себя изнутри, в том числе, и после какого-либо территориального приобретения, сопровождаемого, нередко, структурными общественно-политическими изменениями. Это период, когда межконфессиональные распри ничего, кроме вреда, этносу принести не могут, и инстинкт самосохранения диктует ему, через волю его мудрых лидеров, необходимость внутриэтнического (как и межэтнического) умиротворения.
Таким образом, ислам, в догматике которого имеется немало положений о необходимости и благости борьбы с неверными (а таковыми были русские, ставшие препятствием на пути развития чеченского этноса), положительно оценивающий и поощряющий факт военной добычи, пришёлся весьма кстати тогдашнему чеченскому обществу. Потому что, именно благодаря этим своим сторонам, он снимал многие моральные вопросы, многие нравственные обязательства, которыми так или иначе были связаны чеченцы с русскими, когда чеченцы были язычниками. Не будучи мусульманами, русские становились для чеченцев-мусульман не просто равнозначными противниками, а некими существами, с которыми нет особой нужды церемониться. И если в языческие времена строгий кодекс горской чести в значительной степени распространялся и на русских поселенцев, то теперь все, или многие, его ограничения, сдерживающие территориально-хозяйственную экспансию чеченского этноса в сторону русских посёлков и хуторов, снимались окончательно. В своём блестящем труде «Кавказская война» выдающиеся исследователи и глубокие знатоки истории кавказских народов М. М. Блиев и В. В. Дегоев пишут:
«…до принятия ислама чеченцы считались миролюбивее своих соседей, это даёт основание говорить о хронологическом совпадении роста набеговой системы у вейнахов с распространением ислама в XVII – и особенно в XVIII в.» [2, с.130].
Таким образом, «чеченское общество, охваченное социальными противоречиями, набеговой системой, было вполне подготовлено к восприятию мира через призму исламских догм, где главное – это состояние непрерывной борьбы между мусульманами и неверными» [2, с.130].
«Особенно популярными среди чеченских баяччи были положения из китабул-джихада, согласно которым война поощрялась ещё и ради добычи. Более того, шариат точно определял порядок распределения этой добычи, куда входило всё, в том числе земля, отнятая у неверных. /…/ В Чечне, где в XVIII веке ислам не пустил ещё глубокие корни, в первую очередь воспринимались наиболее агрессивные установки ислама и в значительно меньшей степени – то, что составляло собственно веру» [2, с.130].
Таким образом, если в языческую эпоху какие-то мотивы, сдерживающие захват чеченцами русских хуторов, существовали, то теперь конкретные и ясные догматы новой религии давали возможность, совершенно не мучаясь совестью, нападать на русские поселения, отгонять скот, отымать имущество и разорять имение хуторян.
И здесь нам ещё раз хочется подчеркнуть, что в этом процессе не было и не могло быть каких-либо преднамеренно разработанных схем. Все эти события, в том числе и принятие ислама, связаны с естественным развитием чеченского общества (по воле Божьей), которое, взрослея, уже не могло оставаться ни в рамках прежних норм морали, ни в ставших тесными территориальных пределах прежнего обитания. И это же предопределило переход настроений чеченского общества по отношению к русским от вполне лояльного и терпимого к непримиримо враждебному. Осознание того, что новая вера становится важнейшим подспорьем, могучим, хорошо понятным внешне, стимулом борьбы за своё существование, пришло не сразу, а через многие сомнения, колебания и очевидное во многих случаях сопротивление требованиям новой веры. В частности, исследуя вопрос распространения ислама среди чеченцев и ингушей, ингушский учёный Ибрахим Дахкильгов пишет:
«Приход на смену традиционному язычеству монотеистической религии… естественно был сопряжён с рядом трудностей. Привычные воззрения на мир, бытовые устои, духовная культура – всё должно было подвергнуться где-то коренным изменениям, а где-то приспособиться к новой религии. Понятно, что формальное принятие ислама на первых порах ещё не означало его укоренения» [12, с.256].
Читать дальше