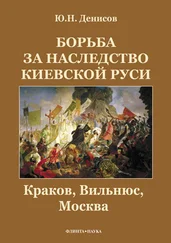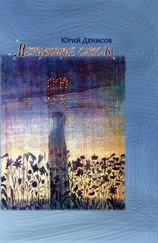Эдуард Максимович Победимцев любил и уважал своих товарищей, дорожил их участием, их мнением. Но отношение к исследовательской работе по военной истории у него все-таки было другим. В отличие от друзей, у него не было никакого своего бизнеса. И, в отличие от них, у него не было и большой семьи с сыновьями, внуками и прочими родственниками. Только в Питере, в старой родительской квартире на улице Пантелеймоновской, коротала свой одинокий век старшая сестра Валентина, такая же бессребреница, как и ее младший брат. Поэтому, Эдуарду исследовательская работа хоть и не давала каких-то серьезных денег, но все-таки была главным содержанием его отставной офицерской жизни.
Он ценил критические замечания Георгия, ему нравились неожиданные выводы Володи. Но больше всего Эдуард любил собственные прозрения. И здесь у него был свой метод, которым Эдуард ни с кем не делился, страдая и мучаясь в своих исканиях наедине с самим собой. Эдуард строго и одинаково относился ко всем направлениям отечественной и зарубежной исторической мысли. Он с упоением погружался в идеи академика Фоменко, но любил и все то, что называлось и «антифоменко».
Так же и с Виктором Суворовым. Невозможно не увлекаться его книгами, его идеями и фантазиями. Но также с огромным увлечением Эдуард поглощал и все то, что шло под грифом «антисуворов». А страсть и ярость, с которой одни воевали с другими, совсем не волновали Эдуарда. Он любил повторять слова любимого поэта В.Я.Брюсова:
«Мой дух не изнемог во мгле противоречий,
Не обессилел ум в сцепленьях роковых.
Я все мечты люблю, мне дороги все речи,
И всем богам я посвящаю стих».
Отношение к идеологии, патриотизму, национальному самосознанию и к внутреннему личному нравственному императиву, по Канту, наряду с яростными воплями некоторых отечественных историков о том, «кто матери-истории более ценен?» он считал для правды истории совсем не главными, по крайней мере, нескромными. При этом понимая, что учебник для школьников – это одно, а правда для взрослых – это другое. Даже жизнью в боях за отечество надо в первую очередь распоряжаться грамотно и разумно, и только в последний миг на грани жизни и смерти позволить себе погибнуть «по-русски, рубаху рванув на груди».
А проникать в глубину исторических вещей Эдуард больше всего любил через свои наваждения и космические прозрения. Он верил в высший разум, верил в единое мировое пространство, пока не во всем доступное человеческому уму. Ничего, потерпим. Очень скоро придет другое время и придут другие люди. А пока, в поисках истины, будет жить с тем, что есть. Эдуард знал мнение своего любимого исторического телевизионного канала: «Нельзя думать, что если из истории убрать всю ложь, то останется только правда, может вообще ничего не остаться». Звучит красиво. Но ведь есть поговорка: «Никогда не было, чтобы никак не было, всегда было, что как-то было». Эта незатейливая мысль была Эдуарду ближе. Самым любимым действием Эдуарда было напитать себя фактами и, уйдя из окружающего мира, устремиться в мир безграничного мирового пространства – и получить оттуда через наваждение, через прозрение осознание того, что могло быть.
«Да, кстати, о памятниках, – вступил в беседу Эдуард, – я оказался сегодня у одного из памятников Севастополя, о котором не знал раньше».
«Вот как? – сказал Карамзин, – в городе уже 1200 памятников и всяких разных памятных знаков. У меня есть приятель в отделе охраны памятников, и я это знаю точно. И что же ты там еще увидел?»
Орлов разливал вино, Эдуард начал рассказывать: «В самом центре, недалеко от Артиллерийской бухты на мысе Хрустальный, есть небольшая малоизвестная улица Нефедова».
Карамзин удивился. Он считал, что хорошо знает город. Но вот оказалось, что улицу Нефедова он не знает. И, что уж совсем плохо, он совсем не знал, кто такой Нефедов, и обратил свой вопрошающий взор на Победимцева.
«Все по порядку, – ответил тот и продолжал, – там, на улице Нефедова, находится памятник первым жертвам Великой Отечественной войны, погибшим от вражеского налета на Севастополь утром 22 июня 1941 года. Вы представляете, друзья мои, что война началась здесь, в Севастополе, и первыми жертвами были наши севастопольцы?».
Карамзин, услышав это, сосредоточился и вновь перебил Эдуарда: «О первом налете мы все, конечно, знаем. И весь город знает. Но нам всегда много лет рассказывали, что это связано с улицей Щербака и первые жертвы именно там: три женщины – бабушка, мать и внучка. Их фамилии известны, их могилы известны. Но ни о каких других улицах ничего не говорилось. А ты говоришь мне про какую-то неизвестную мне улицу Нефедова. Ну и, кстати, кто такой Нефедов?»
Читать дальше