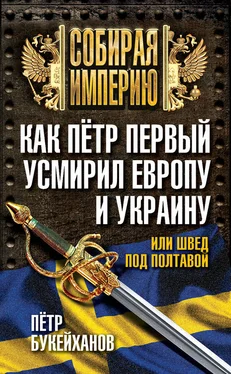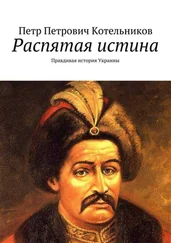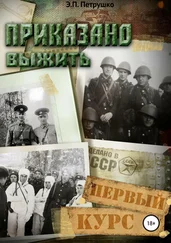В битве при Турине (итал. Torino) 7 сентября 1706 года австрийские и пьемонтские войска под общим командованием принца Евгения Савойского (нем. Eugen von Savoyen, фр. Prince Francois Eugene de Savoie-Carignan) атаковали французскую армию герцога Филиппа II Орлеанского (фр. Philippe II, duke de Orléans), расположившуюся за циркумвалационными линиями, состоявшими из ряда полевых укреплений [429].
В битве при Ауденарде (флам. Oudenaarde, франц. Audenarde) 11 июля 1708 года англо-голландская армия во главе с генералом Джоном Черчиллем, герцогом Мальборо (англ. John Churchill, duke of Marlborough) и принцем Евгением Савойским атаковала французскую армию герцогов Людовика Бургундского (фр. Louis duc de Bourgogne) и Луи́-Жозе́фа д’Бурбо́н-Вандо́ма (фр. Louis Joseph de Bourbon, duke de Vendôme), укрывшуюся за оборонительными позициями севернее Ауденарде [430].
В битве при Мальплаке (Malplaquet) 11 сентября 1709 года датская и английская кавалерия под командованием принца Франсуа Овернского (фр. François Egon de la Tour d’Auvergne, prince d’Auvergne) атаковала центр французской армии, усиленный полевыми укреплениями – реданами, прошла в промежутки между ними и, развернувшись, уничтожила защитников, что позволило английской пехоте занять укрепления, хотя их кавалерия была уже опрокинута контратакой стоявшей за укреплениями французской конницы (вряд ли до военачальников, сражавшихся во Фландрии, за два месяца успели дойти подробные описания битвы под Полтавой на территории Украины) [431].
Даже в ходе Северной войны, еще до битвы под Полтавой, обе сражающиеся стороны использовали для прикрытия основных сил полевые укрепления, опираясь на которые следовало использовать возможности переходить от обороны к атаке. Примерами являются сражения под Калишем и Головчином.
Во-вторых , описание битвы под Полтавой, даваемое Морицом Саксонским, показывает, что он совершенно не представлял, как она в действительности происходила, ориентируясь, по-видимому, на рассказы лично Петра I, с которым ему доводилось встречаться в молодости при дворе своего отца, курфюрста Августа II Саксонского (Мориц или Маврикий-Арминиус был незаконнорожденным сыном Августа от графини Марии Авроры Кенигсмарк (Maria Aurora von Königsmarck)), а также сведения, полученные от других участников с русской стороны.
Так, Мориц Саксонский вполне логично посчитал, что сразу за линией редутов стояла русская пехота (на расстоянии 200 шагов), которая после неудачного натиска шведов на укрепления прошла через промежутки между редутами и опрокинула расстроенную шведскую линию [432]. Он не мог предположить, что в действительности по замыслу царя Петра вся русская армия оказалась разделенной на изолированные друг от друга части: 1) пехоту и артиллерию, находившиеся в редутах; 2) пехоту и артиллерию, находившиеся в укрепленном лагере; 3) кавалерию и артиллерию, располагавшиеся за редутами; 4) кавалерию, располагавшуюся вблизи укрепленного лагеря.
В этом построении ясно отразился полководческий стиль, «почерк» царя Петра как военачальника, что можно легко проследить на примере основных полевых битв и сражений русской армии, которые состоялись в период Северной войны и проходили под руководством царя или влиянием его приказов. Этот «почерк», по-видимому, выработался постольку-поскольку физиологически Петр I был высокого роста и обладал длинными конечностями, что создавало неудобство при верховой езде, которую поэтому царь не особенно любил. Соответствующее отношение он перенес и на кавалерию как род войск в целом, стараясь отделять ее от пехоты и передоверяя командовать кавалерийскими соединениями Меншикову, Гольцу, Ренне, Бауэру, Инфланту, Пфлюгу, Ренцелю, Шаумбургу, Волконскому и другим военачальникам. На этот недостаток Петру I указывал еще в сентябре 1706 года генерал Алларт: «Конница часто без пехоты, пехота часто без конницы… от того великий вред: одно без другого быть не может» [433]. Однако в ответ на замечание Меншикова, касающееся организации взаимодействия кавалерии и пехоты, Петр отвечал: «Писал ты, чтоб разделить пехоту надвое и конницу, а не так чтоб у одного конница, а у другого пехота… и о том предлагаю, что сие (раздельное командование конницей и пехотой . – П. Б. ) кажется лутче: понеже, как говорят, пеший конному не товарищ и есть розница меж конными и пешими…» [434]. Сам для себя царь выбирал управлять пехотой, однако его истинным увлечением были артиллерия и фортификация (характерно, что король Карл XII, напротив, в отличие от царя Петра предпочитал кавалерию, поэтому в бою обычно сам возглавлял атакующие кавалерийские части и подразделения). Отсюда инженерные подразделения при Петре I входили в состав артиллерийских, а звания артиллерийских офицеров по Табели о рангах были на ступень выше, чем в других родах сухопутных войск, уступая только гвардии (например, полковник артиллерии приравнивался к бригадиру в пехоте или кавалерии) [435]. По существу, во главе армии оказался инженер-артиллерист (причем самоучка, приобретший свои специальные познания после собеседований с иностранными специалистами, самостоятельного изучения литературы, а также в результате военной практики), поэтому, естественно, что его излюбленной тактикой было проведение инженерно-фортификационных мероприятий. В связи с этим, за редкими исключениями, Петр постоянно стремился укрыть полевую армию внутри фортификационных сооружений, обеспечивавших, в первую очередь, боевую работу артиллерии.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу