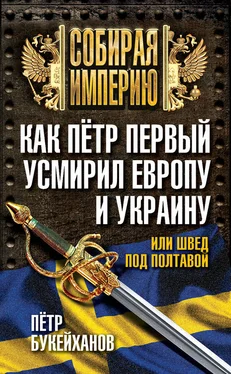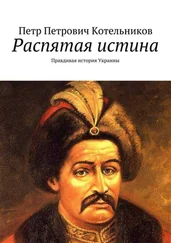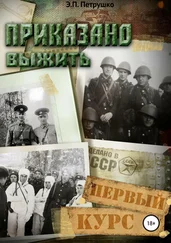В этих условиях Левенгаупт долго не мог принять решение, а затем организовал среди солдат и офицеров шведской армии уникальный в военной истории опрос по поводу дальнейших действий – защищаться или сдаваться, скрыв при этом от старших офицеров однозначный приказ короля о движении к Очакову [781]. Когда полковник Дюккер прямо спросил о наличии абсолютного приказа от Карла XII, Левенгаупт ответил, что король приказал защищаться до конца, то есть исказил смысл королевских указаний. В передаче Левенгаупта приказ короля означал всего лишь новое упрямое требование Карла продолжать бессмысленное сопротивление, тогда как в реальности в сложившейся ситуации от шведов требовались активные действия, а не простая пассивная оборона до полного истребления всей армии (в связи с этим сам Карл XII впоследствии признавал, что допустил оплошность, не сообщив свою волю всем старшим офицерам шведской армии в Переволочне [782]).
С точки зрения А. Констама, Левенгаупт так и не получил от своих офицеров ясного и определенного ответа по поводу дальнейших действий [783]. Поэтому неудовлетворенный противоречивыми ответами после первого опроса Левенгаупт велел провести повторный, затягивая время и позволяя развиваться пораженческим настроениям. Как видно, сам генерал не желал и боялся нового боевого столкновения с русскими (по мнению шведских историков, Левенегаупт еще и крайне тенденциозно сформулировал вопрос к солдатам, опять-таки не указав вариант прорыва на юг через Ворсклу в качестве главной альтернативы сдаче в плен русским).
Тем не менее, даже тенденциозные опросы показали, что среди кавалерии есть шесть полков, все еще твердо готовых воевать: Аболандский и Смоландский рейтарские полки, Лейб-регимент, Лейб-драгунский полк, Уппландский и вербованный немецкий Мейерфельдта драгунские полки – всего около 3–3,5 тыс. солдат и офицеров [784]. Были и отдельные подразделения – эскадроны и конные роты, способные участвовать в боевых действиях или хотя бы выстроиться на поле для демонстрации такого участия.
Точно так же в последние дни боевых действий немецкой 6-й армии под Сталинградом оценка командирами обстановки и боеспособность их войск была совершенно различной. Например, еще 30 января, за день до подписания капитуляции фельдмаршалом Паулюсом, части 295-й немецкой пехотной дивизии, которой командовал генерал Отто Корфес (Otto Korfes), награжденный в этом месяце Рыцарским крестом, контратакой отбили свои ранее захваченные русскими позиции [785]. Соответственно, и в шведской армии оставались боеготовые части, психологически настроенные сражаться с противником. Учитывая наличие запорожских и гетманских казаков, для которых пленение почти наверняка означало неизбежную и мучительную смерть, шведское командование, вероятно, имело в своем распоряжении 7–8 тыс. человек, в основном из конницы, готовых вступить в бой с русскими, а также могло развернуть против неприятеля всю артиллерию, включая тяжелые полевые орудия. Кроме того, сам факт наличия у командования вполне определенного плана действий по спасению армии и построение войск к бою должны были оказать дисциплинирующее воздействие на колеблющуюся солдатскую массу, что привлекло бы дополнительные силы в боевой порядок, тем более шведы все еще имели около 5 тыс. солдат и офицеров пехоты в 12 пехотных полках [786].
Как следует из расположения русских и шведских войск, разгромленная шведская армия была сосредоточена на берегу непреодолимой реки, в болотистой низменности, хорошо просматриваемой с окружающих ее береговых возвышенностей, то есть шведы оказались в естественной ловушке [787]. С другой стороны, отряд Меншикова развернулся в боевой порядок на возвышенном плато западнее дороги из Переволочны на Кишенку. Следовательно, русские имели некоторое тактическое преимущество, но, во-первых, оставили свободной главную дорогу; во-вторых, их лошади устали (по свидетельствам очевидцев, лошади в строю русских эскадронов падали от усталости под тяжестью седоков, поэтому часть русских драгун там же, в Переволочне, пересадили на шведских лошадей [788]); в-третьих, в отряде Меншикова было так же мало пехоты, как и у шведов; в-четвертых, шведы имели значительное преимущество в артиллерии.
По иронии судьбы соотношение сил под Переволочной, если учитывать боеготовые части, практически зеркально повторяло ситуацию под Гемауэртгофом, где Левенгаупт одержал победу над русскими войсками под командованием фельдмаршала Шереметева, причем по артиллерии шведы теперь имели не менее чем двукратное превосходство. Следовательно, Левенгаупт теоретически имел возможность организовать прорыв на Кишенку, если бы он сосредоточил все боеспособные части шведской кавалерии для фланговой атаки русских со стороны дороги, а украинских казаков, остатки пехоты и всю артиллерию использовал для обстрела и отвлекающих действий с фронта. Связав противника боем, следовало попытаться вывести гражданский персонал, женщин и детей на обозных лошадях и легких повозках, бросив при этом на поле боя артиллерию, предварительно расстреляв все боеприпасы по противнику и уничтожив основную часть обоза. Примерно таким же способом Левенгаупт отступал с уцелевшими частями своего корпуса из-под Лесной. Другое дело, что после битв при Лесной и под Полтавой генерал уже не был ни физически, ни психологически готов к таким решительным и рискованным действиям. Кроме того, в обозе находилось ценное имущество и трофеи, взятые шведскими солдатами и офицерами за время всей кампании, с чем они также не были готовы добровольно расстаться, зная, что процедура капитуляции формально предусматривала возможность для побежденных сохранить часть своих вещей и ценностей (в действительности шведы просчитались и бесславно потеряли не только личную свободу, но и всю военную добычу и даже взятые в поход предметы личного обихода – грабители были дочиста ограблены более удачливым противником [789]).
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу