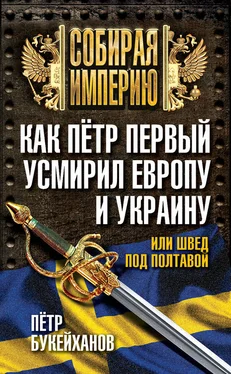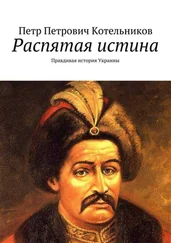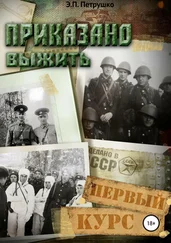Наряду с артиллерийским обстрелом шведские солдаты должны были выдержать еще и ружейный огонь. Первый залп русских пехотных батальонов по свидетельству очевидца: «… учинен от царского величества так сильно, что в неприятельском войске от падших тел на землю и ружья из рук убиенных громкий звук учинился, который внушал, якобы огромные здания рушились» [718]. Затем, по-видимому, русская пехота, как и предписывалось регламентом, продолжала вести непрерывный огонь плутонгами батальонов.
Однако вся эта убийственная пальба не остановила центр и правый фланг шведов. Вздвоив ряды, королевская пехота произвела один ответный ружейный залп со средней дистанции в 50 шагов (по имеющимся данным, на разных участках эта дистанция колебалась от 60 до 15 шагов [719]), а затем перешла в штыковую атаку (согласно воспоминаниям генерала Алларта, шведы дали два залпа по русским [720], но, вероятнее всего, иллюзия двух залпов возникла из-за паузы при поочередной стрельбе шведов вздвоенными шеренгами – согласно своду правил 1694 года «Новый манер боевых действий батальона», две задние сдвоенные шеренги производили залп с расстояния в 70 шагов, а две передние – с 30 шагов [721]).
Как и ожидалось, русские солдаты психологически не выдержали агрессивных действий противника, и часть батальонов царской армии отступила к своей второй линии. По-видимому, здесь сказалась тактическая ошибка царя – разделение полковых батальонов по разным линиям. По данным, которые приводит П. Энглунд, в этот момент шведы захватили 15 или 16 полковых орудий [722]. Учитывая, что русские полки, стоявшие на левом фланге и в центре, имели по два-три полковых орудия и по одной мортире, пять-шесть батальонов полностью оставили свои позиции и отступили ко второй линии боевого порядка. А. Беспалов и П. Энглунд указывают в числе отступивших шесть батальонов Бутырского, Московского (два батальона полка в первой линии), Сибирского, Псковского и Новгородского полков (командиры полков – Иван Солнцев-Засекин, Григорий Чернышев, Петер Лесли (Pierce Edmond de Lacy), Виллим Феннинкбир (Wilhelm Fenninkbir), Кристиан Пфейленгейм (Феленгейм, Christian Pfeilenheim), соответственно) [723]. Поскольку Московский и Псковский пехотные полки имели по два батальона в первой линии боевого порядка, то, вероятно, отступить могло даже не шесть, а семь русских батальонов. По утверждению Е. Тарле, батальон Новгородского полка, выдаваемый царем за новобранцев, не отступил, а был рассеян в штыковом бою [724], судя по всему, одним из двух батальонов Лейб-гвардии пешего полка полковника Поссе, наступавшими в центре боевого порядка шведской пехоты (вместе с 3-м батальоном этого полка, находившимся под командованием его племянника – майора Эрика Гюлленшерны (Юлленшерна, Erick Güllenstjerna), который погиб в битве под Полтавой, двигался и генерал Левенгаупт). В таком случае в пехотном строю на левом фланге и в центре первой линии царской армии образовался разрыв протяженностью около 500–600 метров, причем на месте батальона Новгородского полка возникла брешь шириной около 100 метров. По-видимому, в этот момент погиб убитый вражеским выстрелом командир Новгородского полка бригадир Кристиан Пфейленгейм, причем Новгородский полк потерял убитыми и ранеными 124 солдата и офицера [725].
В это же время два левофланговых батальона шведов из Эстгетского и Нерке-Вермландского полков, отстававшие от других и наступавшие с плохим равнением и порядком, были практически полностью уничтожены. Концентрация вражеской артиллерии против них оказалась особенно велика. На правом фланге русских располагалась гвардейская бригада так называемой «ездящей пехоты», составленная из элитных частей. Помимо сильных Астраханского и Ингерманландского полков, в нее входило семь батальонов Лейб-гвардии Семеновского и Преображенского полков под командованием гвардии подполковников Бориса Куракина и Василия Долгорукова, которые имели 6 и 8 полковых пушек соответственно, вместо двух-трех орудий, полагавшихся по штату линейным пехотным полкам [726]. Также на правом фланге располагалась большая часть царской кавалерии, при которой, по-видимому, находились и приданные драгунским полкам 13 пушек и гаубиц и 4 мортирки. Видя перед собой длинный русский фронт, левофланговые батальоны шведов, предположительно, приняли направление еще левее, чтобы уменьшить риск окружения, и в результате оказались в секторе обстрела артиллерии драгунских и гвардейских полков царской армии. Кроме того, выучка по темпу и меткости ружейной стрельбы у русских гвардейцев, а также располагавшихся рядом с ними привилегированных Астраханского и Ингерманландского пехотных полков, которыми командовали полковник Михаил Шереметев и бригадир Яков Полонский, должна была быть выше, чем у остальной царской пехоты [727]. Все это привело к тому, что большое число солдат и почти все офицеры и унтер-офицеры шведских батальонов были убиты и ранены еще на подходе к русской линии [728](так, был убит командир Нерке-Вермландского полка полковник Георг Врангель (Georg Johan Wrangel), руководивший 2-м батальоном после того, как его помощник, подполковник Хенрик Ребиндер, остался с 1-м батальоном в районе русских редутов, а также погиб помощник командира Эстгетского полка подполковник Хенрик Старенфлюхт (Henrik Starenflyuht)). Высокий процент потерь всегда оказывает деморализующее воздействие на оставшихся в живых бойцов, поэтому остатки батальонов рассыпались. Выжившие под ужасным обстрелом солдаты этих частей стали спасаться бегством на юг, в сторону Малобудищенского леса, за которым открывалась дорога к обозу.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу