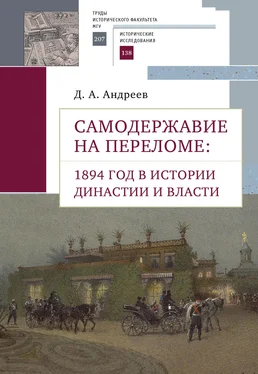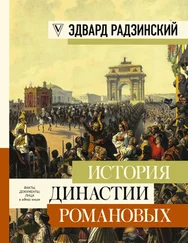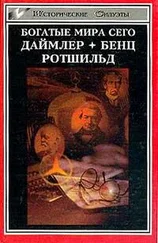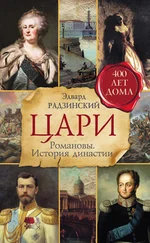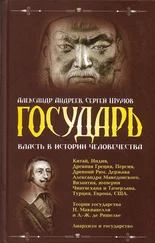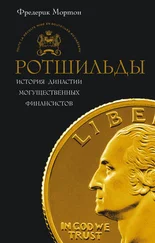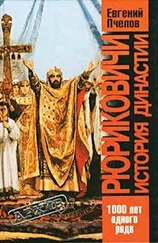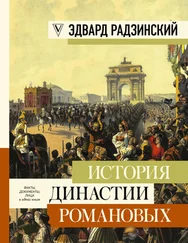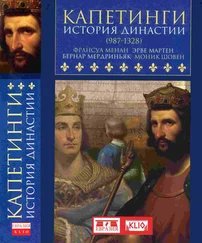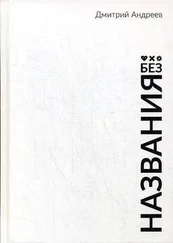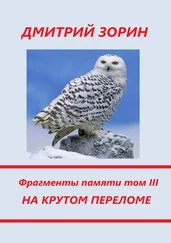С. В. Куликов пишет, что царские пометы на губернаторских отчетах (в том числе за 1894 г.) свидетельствуют о том, что отношение императора к земству «было созвучно» взгляду Бунге, ратовавшего за «расширение» сферы компетенции этих выборных учреждений, только, разумеется, без права заниматься политическими вопросами. Автор отмечает, что царь не возражал против распространения земства на губернии, в которых его по законодательству 1864 г. не было. Однако оба мнения – и о придании земству новых функций, и о введении этого института на территориях, прежде его лишенных, – в течение долгого времени обсуждались в правительственных кругах, но вопрос этот был сугубо прикладным, управленческим, но никак не окрашенным политически.
А. Ю. Полунов в монографии о Победоносцеве разбирает «политическую роль» обер-прокурора в том числе в начальный период правления Николая II. Исследователь подчеркивает, что Победоносцев не входил в круг лиц, бывших рядом с умиравшим императором в Ливадии, и поэтому являлся «сторонним наблюдателем» того, что происходило в крымской резиденции. По мнению автора, причиной, побудившей Николая II не отправлять Победоносцева в отставку, которая готовилась при покойном императоре, стало «почтение молодого монарха к своему престарелому наставнику, который к тому же был многолетним сотрудником Александра III». В свою очередь, обер-прокурор решил воспользоваться расположением со стороны Николая II и попытался вернуть себе функцию, исполнявшуюся им в начале царствования Александра III, – «доверенного советника». А. Ю. Полунов считает, что Победоносцев, «видимо», «имел непосредственное отношение» к составлению царской речи 17 января. Историк называет ее «своеобразной реинкарнацией» другого документа, написанного обер-прокурором, – Манифеста о незыблемости самодержавия [12] Полунов А. Ю. К. П. Победоносцев в общественно-политической и духовной жизни России. М., 2010. С. 295–297.
.
Для исследования А. В. Ремнева, посвященного Комитету министров пореформенного периода, проблематика, связанная с событиями 1894 – начала 1895 г., не является основной. Но тем не менее автор ее затрагивает.
Так, например, рассматривая нюансы взаимоотношений самодержца с «правительственной властью», А. В. Ремнев касается обоих допусков наследника к работе с государевыми бумагами – в январе и в октябре 1894 г., – ссылаясь при этом на данные из дневников
В. Н. Ламздорфа, А. В. Богданович и из воспоминаний Н. А. Вельяминова. Комментируя запись из дневника Ламздорфа за 14 октября 1894 г., в которой говорится, что на бумагах, которые доставлялись из Ливадии, имелись «пометы» не в манере государя (это сообщение рассмотрено ниже), историк делает вывод: «Очевидно, эти последние делались кем-то из непосредственного окружения Александра III». Приведенные примеры нужны автору для общего заключения, что даже в подобные критические моменты императоры предпочитали «ничего не менять в структуре высших учреждений, а также не связывать себя институциональными обязательствами постоянного или регулярного участия в правительственных действиях».
А. В. Ремнев приводит известные цитаты из дневников В. Н. Ламздорфа и А.А. Половцова, а также из воспоминаний вел. кн. Александра Михайловича, А. Н. Куломзина, И. И. Колышко, в которых Николай II характеризуется как неготовый к исполнению роли самодержца и подвластный внешним влияниям. При этом такие цитаты просто перечисляются без их контекстуализации и критического разбора, свидетельства 1894 г. перемежаются высказываниями более позднего времени. В целом верное суждение, что молодой монарх выслушивал советы великих князей, но вместе с тем «быстро стал тяготиться их покровительством», также дается без отсылок к соответствующим фактам.
Так же некритически автор, опираясь на тенденциозные высказывания А. Н. Куломзина, И. И. Колышко и С. Ю. Витте, заключает, что последний император «подозревал всякого в желании узурпировать его самодержавную власть», а поэтому не доверял министрам, предпочитал держать их «в некотором неведении и напряжении». Подобный вывод верен лишь отчасти, в отношении отдельных персон, и не может быть представлен как некий общий принцип, тем более применительно к первым месяцам царствования Николая II.
А. В. Ремнев вслед за В. Л. Степановым пишет о «ежедневных утренних докладах» Бунге Николаю II «в первое время», но в то же время с недоверием относится к утверждению из дневника Д. А. Милютина, сделанному в декабре 1894 г., что министерские доклады делаются «в присутствии» председателя Комитета министров.
Читать дальше