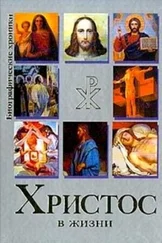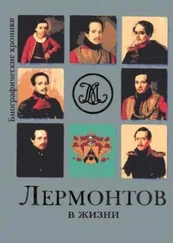Евгений Гусляров
Пётр Великий в жизни. Том второй
Глава IV. Царевич Алексей. Гибель последнего русского
Истоки нынешнего состояния России, конечно, в прошлом. Особенно в первом великом переломе её истории, который произошёл по воле Петра Великого. Русская Атлантида, жившая порядками царя Алексея Михайловича, погрузилась тогда в небытие. Общая драма Руси немедленно отразилась на человеческих судьбах. Самым страшным и таинственным событием того времени стала гибель царского сына Алексея. Он стал знаменем старой Руси, и в истории его гибели можно угадать многие символы и предопределения. Личную драму его легче всего будет понять, разобравшись по возможности в общей беде того времени. Старая Россия проиграла, и это стало личной интимной трагедией царевича Алексея Петровича. Великое содержание той драмы состояло в том, что намертво сошлись Прошлое и Будущее. Дополнительная беда в этом противостоянии такая, что побеждает в России всегда будущее, но это не всегда означает благо. У нас, в России, так даже наоборот. Каждая победа светлого будущего приносит новые неизмеримые беды. Если бы иногда побеждало прошлое, может, не столь печальна была бы сегодняшняя наша история. Царевич Алексей умирал в одиночестве. Его возможные сотрудники были растерзаны прежде. Те, кто ему сочувствовали, переоделись, перекрасились, приспособились. И остался он последним русским в истории, плохим или хорошим, того мы теперь не узнаем доподлинно. Но что он был таким русским, каких после него уже не было, это сущее. Я грущу о нём…
В этой главе предпринята новая попытка разобраться в трагедии, поделившей русское время на древнее и новое. Восстановить все возможные детали жизни, ставшей главной загадкой и главным содержанием сложнейшей эпохи русской истории.
Глухой страшной ночью с 7-го на 8-е августа 1689 года юный царь Пётр бежал из Преображенского в нынешний Сергиев Посад, в прочные стены Троице-Сергиевой лавры. Козни царевны Софьи показались ему в этот раз до смерти грозными. Пушкин, вызнавший детали этого панического бегства, пишет, что весь этот путь Пётр проскакал без штанов на неосёдланной лошади. Расстояние от славного в русской истории села Преображенского до названного, ещё более славного, монастыря – шестьдесят вёрст – больше шестидесяти двух километров. Это был подвиг, совершить который можно стало, только не сознавая себя от ужаса. Пушкин мог легко представить себе, что было с Петром после этого дикого марша. Он, Пушкин, сам когда-то проскакал, примерно, такое же расстояние верхом тоже на неосёдланной лошади, в штанах, правда. Ему надо было, во что бы то ни стало, повидать в последний раз своего лучшего друга, Кюхельбекера, которого везли по этапу в Сибирь через ближнюю к Михайловскому почтовую станцию. Пушкин потом две недели вынужден был лежать в постели, поскольку на разбитых в кровавый фарш ягодицах сидеть было немыслимо. Правда, можно было жить и действовать стоя. Такова была цена, которую заплатил Пушкин другу.
Петра тоже сняли с лошади и на руках отнесли в постель, потому что он не мог даже идти. И в этой постели он принимал первые осознанные и дельные решения, давшие ему, в конце концов, всю полноту царской власти.
На другой день туда прибыла и юная его жена Евдокия. Она не могла скакать на лошади, поскольку была на третьем месяце беременности. Был, выходит, и третий участник этой эффектной искромётной драмы. Медицина не сомневается, что физическое и духовное формирование не появившегося ещё ребёнка зависит от состояния материнского организма и тех событий, которые влияют на это состояние. Историки же, которые не боялись собственного воображения, задним числом решили, что эти события можно поставить эпиграфом судьбы, незадавшейся ещё во чреве матери.
Пётр специальными указами призвал в монастырь нужных ему людей. Одним из первых прибыл сюда генерал Патрик Гордон из Немецкой слободы. Отточенная всей прошлой авантюрной жизнью животная интуиция вновь не подвела его. Он приехал в монастырь с отрядом иноземных наёмников не потому, что ему интересно и дорого было будущее России. А лишь потому, что стрельцы грозились устроить надоевшим иноземцам грандиозный шухер, «немецкий погром». В сущности, инстинкт самосохранения и гешефта, гнавший по земле этот таборный интернационал, спас заодно и Петра. В этом таборе ловцов удачи можно заметить и фигуру неповторимого баловня судьбы Франца Лефорта. Начиналось немецкое иго.
Читать дальше