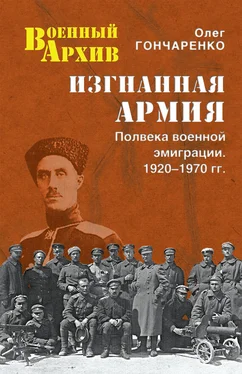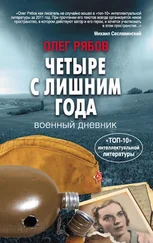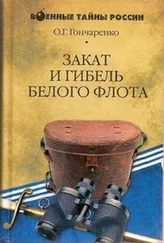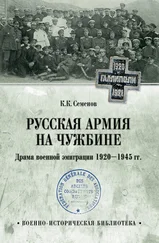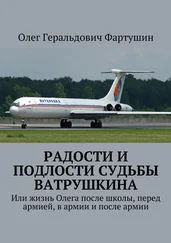Глава пятая. Эмиграция накануне Второй мировой войны
Оттого высоки наши плечи,
А в котомках акриды и мед,
Что мы, грозной дружины предтечи,
Славословим крестовый поход …
Иван Савин (Саволяйнен)
5.1. Положение русских военных эмигрантов на Балканах в 1936–1939 годах
К середине 1930-х годов завершилась эпоха освоения русской эмиграцией западноевропейских стран. Жизнь диаспоры в Югославии становилась все более бесперспективной, и даже тягостной из-за активного нежелания большинства ассимилироваться. Это закрывало возможности трудоустройства и заставляло работодателей дискриминировать держателей «нансеновских» паспортов в сравнении с теми, кто принял югославское подданство.
Ухудшившаяся мировая политическая обстановка по мере возрастания противостояния западноевропейской цивилизации и крепнущего влияния советского социализма способствовала постепенному отчуждению между славянами. Вклад русской военной эмиграции в улучшение качества югославской жизни трудно переоценить, вспоминая бесчисленное количество дорог, городских зданий, возведенных по всем канонам европейского зодчества русскими архитекторами, и всего массива научных и технических знаний, использованных выходцами из России в деле обустройства страны. На политическом небосклоне Югославии на смену общественным деятелям прежних лет приходили «молодые львы», в большинстве своем ориентированные на интеграцию в западное сообщество, нежели чем исповедующих идеи панславизма. Их отношение к СССР, где больше не существовало традиционного русского уклада жизни, а создавался безликий «новый человек» для служения химере мировых революций, было скорее благожелательным, нежели, как у их предшественников, основанным на прагматических принципах взаимной выгоды товарооборота с СССР. В предвоенные годы часть «молодых львов» балканской политики стремились к упрочению политических отношений с СССР, как в прошлом веке их деды, видя очевидную выгоду использования России в качестве гаранта национального суверенитета. Это не могло не вызвать беспокойства в стане эмиграции, особенно военной её части, ибо заигрывание с коммунистическим режимом в любое время могло обернуться гонениями на «белых» эмигрантов, пожелай того новый политический партнер Югославии.
Но более всего жители Королевства ощущали невероятную конкурентоспособность русских эмигрантов во всех сферах жизни, что не могло не сказаться отношении «к пришлым», напомнить гостям «их место» и вытеснить изо всех отраслей деятельности, кроме неквалифицированного и тяжелого труда, не пользующегося среди народов юго-восточной Европы популярностью.
И если солдаты и офицеры Врангеля в начале 1920-х годов, проводящие дни, недели и месяцы на прокладке горных дорог и в шахтах, вызывали снисходительное отношение, то интеллектуалы 1930-х заставляли проявлять некогда «гостеприимных хозяев» свои далеко не лучшие качества. В 1930-е годы служащие Белградского университета, считавшие, что эмигранты отбирают их «хлеб», преподавая в югославских вузах, бойкотировали своих русских коллег.
Духовенство в Югославии, первоначально принявшее русских единоверцев с вежливым радушием, резко изменило своё отношение со строительством русскими новых храмов, опасаясь оттока паствы и, как следствие, снижения уровня доходов в виде пожертвований. Дело доходило до физического противодействия, как, например, в случае со строительством церкви, освящённой во имя Святой Троицы. Это вызвало большой скандал, так как сербское духовенство предприняло все усилия, чтобы построенный храм так и не был открыт, противодействуя и мешая русскому клиру на всех уровнях, включая банальные потасовки. Когда же на колокольне надо было подвесить колокол, то сербские клирики, служившие в близлежащем храме во имя Св. Апостола Марка, стали так активно противодействовать этому, что русским батюшкам пришлось вызывать местную полицию, чтобы избежать столкновения.
Справедливости ради стоит упомянуть теплый приём военным эмигрантам, оказанный сербским офицерством, многие из которых хорошо помнили поистине материнскую щедрость собственного приёма в России, где до 1917 года обучались в военных училищах. В лице генерала Милана Недича в 1920-е годы русские военные обрели действенного помощника в отстаивании интересов русских кадетских корпусов и русско-сербской мужской гимназия. 126 кадет Одесского и Полоцкого корпусов и 20 чинов персонала были помещены с разрешения югославского правительства генералом Недичем в местечке Панчево под Белградом, на берегу реки Тамиш.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу