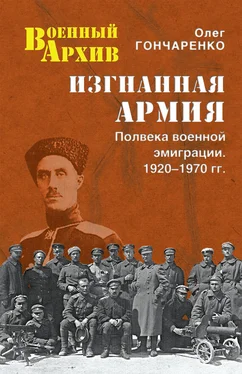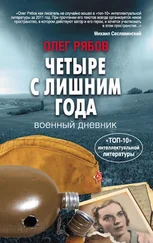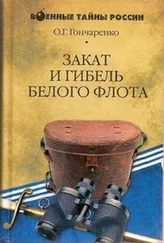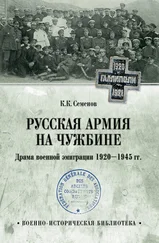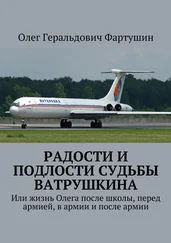Крепость Джебель-Кебир была окружена глубоким рвом и высоким валом. Вал широкой каменной стеной опоясывал всю крепость по периметру и замыкался высокими каменными воротами с толстой железной решеткой. У самой крепости располагалась строевая площадка, откуда открывался дивный вид на всю Бизерту с ее горами, пальмовыми аллеями, озером и уютную средиземноморскую бухту. На эту площадку выносился знаменный флаг, здесь же служились молебны, проходил церемониальным маршем батальон Морского корпуса, зачитывали приказы и звучали речи начальствующих лиц. Здесь же в храмовый праздник корпуса 6 ноября, день Святителя Павла Исповедника, истинный морской праздник, проходили торжественные парады. На входе в крепость дежурный гардемарин, вооруженный морским палашом, салютовал прибывающим. В одном из казематов магометанского Кебира стараниями о. Георгия Спасского была обустроена корпусная церковь. «С низкого сводчатого потолка спускаются гирлянды пушистого вереска и туи, в них вплетены живые цветы. Гирлянды темной рамой окружают белый иконостас с Царскими вратами. На иконостасе образа Христа Спасителя и Св. Павла Исповедника. Справа и слева две белых хоругви и знаменный флаг. Белые покрывала на аналоях сшиты из бязи и золотых позументов, паникадило из жести. Через узкую бойницу падает луч солнца на Тайную Вечерю над Царскими вратами», – описывал внутренне убранство храма очевидец. [99]В этой церкви, с любовью обустроенной о. Георгием, скромной и бедной, но вместе с этим уютной и ласковой, совершались все службы и церковные требы для Морского корпуса и семей моряков.
Курс лекции Морского корпуса состоял из разнообразных важных предметов – дифференциальное исчисление, математика, морское дело, история, русский язык. Воспитанникам устраивались гимнастические праздники, организованные и подготовленные поручиком Владимиром Ивановичем Высочиным.
Во рву крепости ценители искусства организовали любительский театр, где шли пьесы, сочиняемые кадетами Морского корпуса. Проводились балы. С необходимым реквизитом всегда помогал морской агент в Париже капитан 1-го ранга В. И. Дмитриев, считавшийся надеждой и опорой корпуса в «парижских сферах» и помогавший «питомнику морской детворы и молодежи» приобрести или организовать доставку необходимых вещей.
Первый корпусной бал состоялся в крепостном двору, где стараниями кадет и гардемарин был украшен и выложен досками танцевальный зал. На возвышении, в гирляндах и флагах, расположился оркестр корпуса. Участник бала вспоминал: «Вальсы сменялись мазурками, плясали краковяк, кадриль, миньон, полонез, шакон и даже польку. Весело, искренне, непринужденно, как всегда у моряков. Для отдыха между танцами дамы и кавалеры, пройдя двор, углублялись под своды крепости и скрывались в интимном полумраке разноцветных гостиных, где их угощали сластями и лимонадом. Там, на мягких диванах… восседала та или иная царица бала, окруженная синим кольцом гардемарин или кадет. В одной гостиной пели русские песни, в другой играли в шарады…» [100]
Со временем в русской колонии возникли «Дамский комитет», состоявший из жен офицеров, и пошивочная мастерская, занимавшаяся пошивом одежды для всех чинов Морского корпуса. Были собраны и открыты корпусная библиотека и типография. Почти одновременно с ними возник даже магазин – «Казенная лавочка» для всего населения русской колонии. Стараниями офицеров-любителей особо модного в 1920-е годы лаун-тенниса на территории лагеря построили площадку. Свидетель событий так описал одну из идиллических картин бизертинской жизни: «На площадке тенниса, окруженной молодыми соснами, звонким колокольчиком звенит задорный смех. Весело прыгает на загорелых ножках, подбрасывая ракеткой белый мяч, хорошенькая девочка… золотые кудряшки пляшут по загорелым, дрожащим от смеха щекам. Ее партнеры-кадеты не отстают от нее ни в резвости, ни в веселости» [101].
Однако и здесь, на севере Африки, в сравнительно благоприятных для эмигрантов условиях в сопоставлении с Балканскими странами, перед многими морскими офицерами и преподавателями Морского корпуса неизменно вставал вопрос о том, как жить дальше. Те, кто не мог надеяться на благополучное возвращение в Россию, отправлялся на поиски своего счастья в иные земли. Так, например, адъютант корпуса барон Николай Николаевич Соловьев предпочёл уехать в Америку, куда позже отбыли и ряд других офицеров. Часть служащих корпуса отбыла во Францию, в надежде обустроить там свою жизнь или попытать счастья на гражданской службе. «Медленно, но верно таял Морской корпус в своем личном составе. Кончающие воспитанники уезжали во Францию на заработки, за ними уезжали и воспитавшие их офицеры и преподаватели. Редел штат служащих», – утверждал свидетель его распада [102].
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу