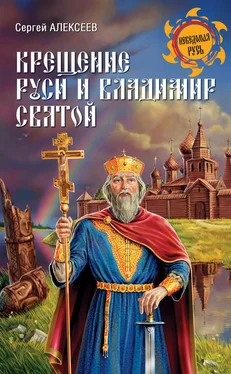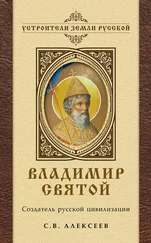Взял, однако, князь и кое-что, не имевшее к христианским святыням отношения, – «две медных капищи и четыре коня медных». Шесть медных статуй языческой эпохи он взял исключительно для украшения Киева. Эти памятники античного искусства, чем-то приглянувшиеся князю, радовали взоры киевлян еще века спустя. «Невежды мнят их уже мраморными», – замечает в этой связи летописец.
Князь не повел нагруженное добычей русское войско вверх по Днепру. Причиной этому, как справедливо предполагают, вполне могла стать память о злосчастном возвращении Святослава с Болгарской войны. Сам Владимир, как мы помним, доселе в походы на юг, за пороги, не ходил. Русские двинулись к Керчи, откуда можно было проплыть в Азовское море и дальше вверх по Дону и Донцу.
«На Черной Воде», неподалеку от Сурожа, Анна внезапно заболела. Одних треволнений последних недель для того было вполне достаточно, но болезнь княгини казалась смертельной. Можно представить себе горе и тревогу Владимира. Анна обратилась с мольбой к святому Стефану Сурожскому – тому самому, грозное чудо которого заставило некогда креститься русского князя Бравлина. «Святой Стефан! – молилась царевна. – Если избавишь меня от болезни этой, то много одарю тебя и почести воздам тебе!» Как передает собрание «Чудес святого Стефана», святой явился Анне на следующую ночь объявил ей о выздоровлении. Анна проснулась здоровой и возблагодарила Бога. Все спутники княгини – конечно, в первую очередь русские – были восхищены и поражены чудом. Поход остановился в Суроже, и молодая чета щедро одарила храм Святого Стефана. Именно вскоре после этого был составлен упомянутый сборник «Чудес». Два описываемых там чуда напрямую связаны с историей Руси, и символично, что сохранились «Чудеса» до нас именно в древнерусском переводе.
Из Сурожа Владимир прибыл в Керчь, откуда собирался безопасно, через завоеванную Святославом Белую Вежу, вернуться на Русь. Благодаря остановке русского войска у Керченского пролива весть о крещении Владимира и открытом исповедании им христианства стремительно разнеслась по Кавказу. Достигла она и Дербента. В городе полыхнул мятеж. Муса ат-Туси, известный мусульманский богослов из Ирана, потребовал от эмира Маймуна немедленно истребить русский отряд – или обратить их в ислам. Маймун понимал, что принимать ислам, тем более теперь, по своей воле русы не будут – а терять главную опору не хотел. Вместе с ними он заперся в цитадели, которую русы обороняли против дербентцев 28 дней. В итоге Маймун с русами покинул страну, оставив Дербент сторонникам ширваншаха. Маймун отправился в Южный Прикаспий, где в конечном счете русы покинули его – очевидно, отозванные понявшим бесполезность усилий Владимиром.
Итак, вся долгая эпопея с выбором веры не принесла Руси и ее князю на первых порах никакой зримой политической выгоды. Херсонес вернулся к грекам, Дербент Владимиру тоже не достался. Но Владимир имел все основания считать, что получил гораздо больше. И дело даже не в браке с порфирородной Анной, который разом вводил его в круг величайших христианских государей Европы. Он нес своей стране веру. И надеялся, что Русь примет от князя этот наивысший дар.
Долгий кружной путь по Северскому Донцу, Сейму и Десне, мимо Чернигова, давал Владимиру возможность поразмыслить над дальнейшими действиями. Остававшиеся же в Киеве жители заранее могли узнать о поступках князя и оценить их. Вести о том, что Владимир открыто исповедовал себя христианином, женился на Анне и в вено за нее отдал грекам только что завоеванную Корсунь, конечно, достигли столицы раньше князя. Их привезли купцы-«гречники», весь весенне-летний сезон плававшие по днепровскому пути и неизбежно опередившие неспешное шествие князя. В кого-то вести, должно быть, вселяли тревогу, но крещение княжеской дружины и твердость намерений Владимира оставляли небольшой выбор противникам христианства.
Чтобы правильно понять все дальнейшее, следует иметь в виду три вещи. С одной стороны, киевляне в основной массе продолжали верить в реальное существование своих привычных богов, почитали и боялись их. С другой стороны, и именно в силу верности привычным языческим представлениям, они видели в князе высший духовный авторитет, признавали за ним право выбирать богов и способы поклонения им. Помимо же этого, долгие споры и советы о вере, почти что публичные «испытания» морально подготовили основную массу горожан к крещению, возбудили неизбежные толки о слабости прежних богов перед Христом. Следует помнить и о том, что в Киеве имелось немало христиан, теперь открыто поднимавших голос. А главное – какая-то часть мужского населения Киева и округи участвовала в походе на Херсонес, а значит, и разделяла с князем ответственность за все там происшедшее. Наверняка многие киевские «люди» крестились уже там, вместе с княжеской дружиной.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу