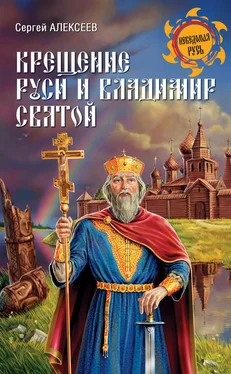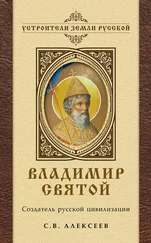Добрыня снес старый Волховный городок, покончив – на словах, на «официальном» уровне, – с этим причудливым культом. Яму-провал, в которой исчезло тело Волха, впрочем, так никогда и не засыпали, и еще суеверы XVII века уделяли ей внимание. Но вот вместо старого «городка» Добрыня соорудил над Волховом новый, – и именно его помнили позднее новгородцы. Центром его стал столбовой кумир Перуна, вытесанный по киевскому образцу. Перун изображался как бог-воин, вооруженный огромной палицей. Площадку с идолом большим неровным кольцом опоясывал широкий, семиметровый (но глубиной лишь до 1 метра) ров в форме восьмилепесткового цветка. В «лепестках» на праздники зажигался огонь, в который бросались более скромные подношения – горшки с пищей, ремесленные изделия. В восточном «лепестке», обращенном к реке Волхов, огонь, поддерживаемый священной древесиной дуба, горел постоянно. Животные и человеческие жертвы приносились перед ликом Перуна в жертвенном круге, выложенном большими булыжниками.
Побуждения Добрыни ясны. Он насаждал культ киевского Перуна – верховного надмирного покровителя князей и дружины, а не племенного князька-полубога. Заодно, с построением и на Волхове «главного» капища, отодвигалось на задворки столь популярное на Севере поклонение хозяйственным, простонародным богам – Велесу и Земле. Однако справиться с этим Добрыне оказалось не под силу. Культ Велеса все равно остался основным для словен. Просто центр его переместился на восточную периферию, в Ростов и Тимерево, что близ позднейшего Ярославля. Здесь же скопились и хранившие верность Велесу в его прежней мощи волхвы – будущие соперники первых поколений проповедников христианства.
Часто говорят о том, что «первая религиозная реформа» Владимира не удалась из-за разнообразия местных языческих культов, а результаты ее проведения разочаровали князя. Правильнее сказать, что она как следует и не развернулась. Владимир ограничился утверждением своего пантеона в Киеве и в Новгороде. Причем новгородский результат оказался настолько двусмыслен, что дальнейших мер просто не предпринималось. Никаких. Владимир и Добрыня, люди умные и дальновидные, – насколько позволяла им в этом вопросе вера отцов – быстро поняли, что попытка свести к «общему знаменателю» племенные верования ведет в никуда. Потому они остановились в своей преобразовательной деятельности – для дальнейшего раздумья. «Реформа» застопорилась, толком и не начавшись.
Это, однако, не означало еще разочарования в самой отчей вере – или прекращения жертвоприношений в Киеве. Между тем среди киевлян, как уже говорилось, со времен Ольги существовала христианская община. Владимир не устраивал явного гонения. Но после Ярополка киевские христиане, как и на пике славы Святослава, предпочитали веру «держать в тайне». Недовольны были христиане – но недовольны доходившим до изуверства религиозным рвением князя оказывались и новые «безбожники». Те самые, «верующие в самих себя». Таких в княжеской дружине имелось немало – и славян, и оставшихся норманнов. Больше, чем христиан, убежденных врагов язычества, которым Владимир вряд ли доверял. Точку зрения именно этой колеблющейся дружинной массы, скептичной и раздраженной жуткими новшествами, вкладывает монах Одд в уста своего героя, княжеского воспитанника Олава Трюггвасона. К чести будущего крестителя Норвегии. Хотя вовсе не обязательно подобные речи вел с будущим крестителем Руси именно он. Повторим, это вполне мог быть и иной славянин из ближней дружины. Норманны, совмещавшие своих богов с местными, легче, конечно. впадали в скепсис. Но если бы скепсис не выходил за пределы небольшого круга чужеземцев, то вся история Руси сложилась бы иначе. Здесь же важна сама более или менее достоверно воспроизводимая преданием точка зрения, а не ее «автор».
Итак, Олав, никогда никаким богам не молившийся (собственно, в рабском детстве его некому было учить, а потом привыкать оказалось поздно), обычно ходил с Владимиром лишь до «дверей» «храма». Там он останавливался и ждал, пока князь завершит свои обряды. «Храмов», наподобие западнославянских или скандинавских, у славян восточных никогда не водилось, но это как раз объяснимая условность. Однажды обеспокоенный Владимир попросил приемного сына: «Не делай так больше. Может случиться так, что боги разгневаются на тебя, и ты погубишь цвет своей молодости. Я бы очень хотел, чтобы ты смирился перед ними. Боюсь, что они обрушат на тебя сильный гнев, коему ты себя сам подвергаешь». Но Олав ответил: «Никогда я не испугаюсь богов, не имеющих ни слуха, ни зрения, ни сознания, и я могу понять, что у них нет никакого разума. И из того я могу сделать заключение, господин, какова их природа, что ты мне представляешься всякий раз с милым выражением, за исключением того времени, когда ты там и приносишь им жертвы. Тогда, когда ты там, ты мне всегда кажешься несчастным. И из этого я заключаю, что те боги, которым ты поклоняешься, должно быть, правят мраком».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу